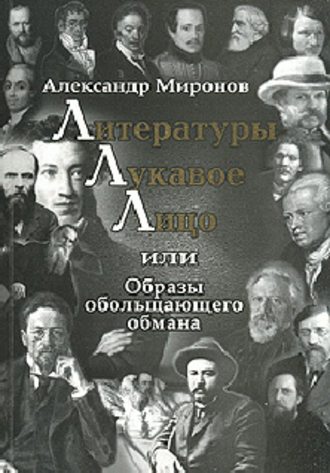
Александр Миронов
Литературы лукавое лицо, или Образы обольщающего обмана
«Бедная Лиза» Н. М. Карамзина – образец художественного обмана подрастающего поколения
Бог наказал любовью всех, чтоб в муках верить научились.
Из отечественного поэтического наследия
Почему вдруг так-то? – спросит некто, искренно возмутившись смыслом заголовка настоящего очерка. А потому, ответит автор сего критического изыскания, что иное и в голову не приходит после внимательного прочтения «Бедной Лизы». Автор повести выступает как бы в роли хроникера, которому «добросовестно» исповедуется бывший возлюбленный Лизы (он представлен в повести под именем Эраст). Но в результате Н. М. Карамзин преподносит своему читателю подлинную историю двух молодых людей, как говорится, в несколько ретушированном (художественном) виде. Почему вдруг такое суждение? А вот почему. В частности, в финале повести ее автор пишет такое: «Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом». То есть Н. М. Карамзин видит свою героиню лишь прекрасной. Иначе говоря, на недостатки Лизы он легко закрывает глаза и тем самым подталкивает своего читателя согласиться с тем выводом, что ее жизнь обрывается в целом безвинно, а значит, подобное печальное событие в жизни должно восприниматься всяким аналогично, или с большим прискорбием. В свою очередь, автор очерка полагает сию позицию автора повести, мягко говоря, некорректною, так как даже из текста повести усматриваются некоторые детали принципиального свойства, никак не позволяющие согласиться на большую скорбь в связи с финалом рассматриваемого произведения. Другими словами, Н. М. Карамзин, видимо, из превратно понимаемых воспитательных целей, вполне допускает отход от объективной оценки, излагаемой им же грустной истории. Впрочем, попробуем в свою очередь доказать сформулированное выше предположение посредством прочтения и детального разбора написанного в повести «Бедная Лиза».
Начинается повесть о героине следующими словами: «Но всего чаще привлекает меня к стенам Синова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю предметы, которые трогают мое сердце и заставляют проливать слезы нежной скорби!» Как мы видим, автор открыто говорит о том, что он любит переживать трогательное состояние, которое умиляет его тем, что принуждает его же «проливать слезы нежной скорби». Иначе говоря, читателю повести изначально предлагается также быть готовым к пролитию собственных слез. Смерть отца Лизы и последующая плохая работа наемного работника привела героиню и ее мать к убыткам. Кроме этого, мать и дочь принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. В результате Лиза в 15-летнем возрасте становится главной работницей в семье, так как ее матушка по причине большой любви к усопшему мужу совсем ослабела. Кстати, что это такая за большая любовь, от которой совсем слабеют? Вероятно, что речь идет об унынии, которое есть большой грех, вполне убивающий любого. И вот в 17-летнем возрасте Лиза приходит в Москву с ландышами, предназначенными на продажу по 5-ти копеек. Познакомившись с Эрастом, она отказывается брать от него за свои цветы рубль: «Мне не надо лишнего». Зато она тут же соглашается в дальнейшем продавать цветы только ему. Тем самым она все-таки соглашается на особые отношения с новым для нее человеком, полагая, что этим никак себя не связывает. Когда же ей в следующий раз не удается продать свой чудесный товар ему по причине его отсутствия, она бросает цветы в Москву-реку со словами: «Никто не владей вами!» В последней сцене несколько удивляет и даже настораживает весьма жестокое обращение героини с собранными ею же «самыми лучшими ландышами». То есть смущает какая-то внутренняя, если хотите, капризность характера Лизы, которая легко распространяет понятие избранности на еще, собственно, постороннего ей человека. Иначе говоря, героиня повести стихийно возвышает своего нового знакомого в категорию несравнимого ни с кем и ни с чем. Хорошо ли это? Вряд ли. Ведь потрафляя подобному настроению, недалеко и до мании величия будет: как же можно, чтобы до цветов моего знакомого кто-то посмел бы прикоснуться! А кто же такой Эраст? Это «довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою». Но чем насыщает герой свой ум и душу? «Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали». Видимо, поэтому-то в момент своей встречи с Лизой герой впадает в иллюзию: «Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало». В результате этого Эраст и решается на время оставить большой свет и посвятить себя только встречам с героиней повести. Другими словами, устав от пустоты и никчемности внешне роскошной жизни большого света, Эраст ищет для себя романической идиллии. Это, конечно, так, но только с одной стороны, с другой же – ситуация выглядит явно иначе, а именно: герой «думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою». То есть Эраст, по причине присущей ему сердечной слабости и ветрености, не мог быть в большом свете, как говорится, в фаворе, а значит, был в неудачниках. Иначе говоря, перед Лизой предстает вовсе не рыцарь, перед ней в целом слабовольное и никчемное существо, имеющее лишь деньги и дворянское звание. И вряд ли красавицы большого света уделяли ему серьезное внимание. Скорее всего, они только пользовались им как вещью в лучшем для него случае. Тогда как ему явно хотелось успеха и признания. Но героиня повести ничего этого совсем не видит и даже не чувствует. Она смотрит на него как на Бога, спустившегося к ней с небес. Что же так? Неужели Лиза глупа? Как усматривается из последующего повествования, героиня вполне развита и даже предусмотрительна, в частности, когда Лиза решается на самоубийство в связи с коварным обманом Эраста, она передает своей матери на словах, что отсылаемые ей деньги «не краденые». Кроме этого, она же умело скрывает свою достаточно долгую любовную связь с Эрастом от собственной матери до самой развязки ее. Но тогда Лиза все-таки ведет себя на самом деле совсем не целомудренно, а значит, ее поведение – это поведение, как ни поворачивай, внутренне порочного существа. Другими словами, у нас выбор: либо героиня глупа, либо все-таки порочна, и ее влечение к неудачнику из дворян вовсе не случайно, то есть корыстно будет. Впрочем, это пока лишь версия, которую мы и попробуем с вами, уважаемый читатель, проверить посредством вдумчивого прочтения всей повести Н. М. Карамзина.
Обратив свой взор на повесть, мы сразу же обнаруживаем первое несоответствие текста выдвинутому до того предположению, а именно: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои (в данном случае речь идет от имени героини повести. – Авт.), рожден был простым крестьянином, пастухом». Тем самым Н. М. Карамзин указывает своему читателю, что Лиза совсем не ищет в лице Эраста пути для себя в дворянское сословие. Что ж, учтем сие и двинемся далее. Впрочем, вернемся несколько назад и прочтем следующее: «Ах, Лиза! Как он (речь об Эрасте. – Авт.) хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами.» Как мы видим, даже мать героини повести легко чаруется деликатным обхождением со стороны героя. Кроме этого, она же легко принимает условие Эраста, чтобы ее дочь работала только на него, никак не усматривая в нем ничего подозрительного. Что это, природная наивность уже много повидавшей в жизни женщины (ею прожито почти 60 лет) или лукавство автора повести? Последнее предположение представляется более уместным. Почему? Да потому, что подобное предположение с учетом редкой красоты ее дочери не могло бы не насторожить любого опытного человека. А кроме того, Лиза все-таки понимает, что «между крестьянами» такого деликатного обхождения ей не найти, а значит, и искать его там не следует. Но тогда ей непременно захочется, хотя бы в мечтах, выйти замуж за дворянина! Вот поэтому-то героиня повести, может быть безотчетно, «голосует» все-таки в пользу Эраста. Видимо, как раз из этих соображений она и просит героя периодически встречаться с ее матерью, предполагая в этом для своих планов будущую опору. Для Эраста же редкая женская красота его возлюбленной – большая удача выходит, ведь в большом свете ему ничего подобного и «не светит» совсем. С другой стороны, герой боится и жениться на Лизе, так как знает, что по природной слабости и ветрености никак не сможет снести сей «крест ответственности» перед дворянским сословием, которое ему, конечно же, не простит подобного вопиющего проступка. Поэтому он изначально прячет свои отношения с героиней, в частности, говорит ей такое: «"Ей (речь о матери героини. – Авт.) не надобно ничего сказывать". – "Для чего же?" – "Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое". – "Нельзя статься". – "Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова"». Как мы видим, герой изначально добивается своей цели нечестным путем. При этом Лиза почему-то не смущена таким поведением своего возлюбленного, считая его вполне дозволенным. Что это, слепая страсть героини? Вероятно, что так. Но подобная реакция Лизы одновременно характеризует и ее саму далеко не с лучшей стороны. Она легко начинает верить в то, что ею любимая мать может быть ей же помехою. А еще любовная страсть Лизы к герою повести принимает прямо-таки гипертрофированные размеры, в частности, она думает: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!» То есть мы видим, что героиня даже в мыслях своих буквально боготворит своего возлюбленного. Хорошо ли это? Возможно ли это для Лизы, какою она предстает перед читателем повести? Мы ведь все помним библейское предостережение: не сотвори себе кумира, человек! С другой стороны, героиня повести твердо знает, что ей не быть женою Эраста. В частности, она в самый канун утраты своей девичьей невинности говорит герою повести следующее: «"Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!" – сказала Лиза с тихим вздохом. "Почему же?" – "Я крестьянка"». Тем самым Лиза сообщает читателю, что она всерьез не надеется на долгое счастье с героем повести. Но тогда зачем же она отдается ему, зачем становится его любовницей, на что уповает при этом? Впрочем, кто-то, возможно, заметит, что Эраст обещает героине взять ее к себе и жить с нею неразлучно, но только по смерти ее матери. Но неужели в этот момент действительно честная девушка не возмутилась бы, не задумалась бы над такими речами героя? Тем более, если бы знала, что ею любимая мать только и мечтает об одном – перед своей уже близкой кончиною выдать любимую дочь замуж за хорошего и обеспеченного средствами для семейной жизни молодого человека. Кстати, она и приискивает-таки для Лизы жениха из богатой крестьянской семьи. Иначе говоря, что-то не складывается, не получается совсем: либо девушка действительно честна и невинна, либо она все-таки своенравна и одержима любовной страстью к недостойному человеку. Или выходит прямо по пословице: «Любовь зла – полюбишь и козла». Да, если рассуждать пристрастно, то Лизу, конечно же, можно оправдывать малыми летами (17 лет), наивностью в восприятии мира и людей, девичьими мечтами о личном счастье. Но, если говорить честно (по совести) или объективно, то у героини повести в наличии все необходимое, чтобы уберечь саму себя от обольщения погибельным намерением. Другими словами, у нее все-таки есть природный ум, есть знание пределов допустимого поведения для честной девушки, есть защита и поддержка любимой и любящей ее матери. Тогда как Лиза, переступив через все это, добровольно бросается в пропасть иллюзии счастья с нечестивым в целом человеком. Кто повинен в происходящем более всего? Представляется, что правильным ответом будет то, что более всего повинен автор повести, который как бы из лучших побуждений (из жалости якобы ко всем безвинным) совершает художественный обман, и главным образом – подрастающего поколения, никак не защищенного от него ни знаниями, ни опытом жизни.
Завершая настоящий смысловедческий анализ повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза», следует категорически заявить следующее. Автор рассматриваемого произведения сознательно и в изящной литературной форме представил своему читателю историю якобы безвинно загубленной чистой и нежной юной девушки. Что возможно сказать в связи с этим? Прежде всего, то, что автор сумел-таки добиться своего и вызвать сопереживание и жалость к героине своей повести. Но все же герои повести Лиза и Эраст представлены автором несколько превратно. Почему же вдруг так? Где доказательства сего странного утверждения? Извольте. Вот Лиза, по мнению автора, непорочна. Но разве чистый и честный человек полюбит порочное лицо, способное таиться и обманывать? Тогда как Лиза любит и совсем не замечает пороков своего возлюбленного. В таком случае ее связь с уже развращенным молодым человеком разве не делает ее саму же порочной? Конечно же, делает, а значит, представлять ее не падшей (кстати, добровольно) в грехе женщиной никак нельзя. Да она и сама собственным утоплением свидетельствует о том, что прельстилась чарами порочного лица и пала через присущий ей изначально каприз и своенравие. Иначе говоря, героиня повести не так уж с самого начала чиста, как это пытается представить своему читателю Н. М. Карамзин. Теперь некоторые пояснения в связи с героем повести – Эрастом. Что он такое изначально? Благонамеренный и одновременно лукавый человек. Почему так? А потому, что ищет себе «дешевенького» счастья. Другими словами, испытывая неудачи с равными себе по классу, он пытается «сбегать» в низшее сословие и разжиться там без труда «радостями» за счет слабых и не равных себе социально. Поэтому он изначально и ставит условия в отношениях сначала с Лизою, а затем и ее матерью. Да, герой не желает прямого злодеяния, так как в нем для него какой-либо утехи и не имеется, но он изначально вовсе не запрещает себе совершать зло вынужденное, непреднамеренное. Иначе говоря, он настроен на лучшее, но и не против категорически худшего развития событий по своей же воле. Эраст ради превратно понимаемого им блага всего лишь готов согрешать и щедро делиться последствиями этого со своей возлюбленной, которая выступает при этом в роли своего рода соучастницы и даже пособницы его очередного падения. Ежели Лиза изначально глупа и ничего не понимает до самой развязки своей истории, то и говорить не о чем, но если она все-таки видит и осознает совершаемое, то ее поведение изначально порочно и даже суицидально будет. То есть героиня повести Н. М. Карамзина странным образом с самого начала мысленно уже обрядилась по собственному желанию в одежды «бедной Лизы», которую непременно ожидает лишь скорый и совсем печальный конец. Но тогда разве благим будет требование к читателю о сопереживании героини повести как безвинной жертве обстоятельств, ведь это будет уже явным участием самого читателя в изначально порочном деле? В противном случае сама рассматриваемая нами повесть должна бы, честно говоря, быть переписанной в ином – соответствующем подлинной жизни ключе. Впрочем, свершению сего справедливого пожелания никак не суждено быть, а значит, приходится находить удовлетворение лишь в объективном рассмотрении написанной когда-то повести в надежде избегания впредь обольщения ее красивыми, но порочными смыслами.
24 июля 2007 года
Санкт-Петербург
«Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина – горькая ирония над стремлением человека к праведности…
…с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру!
М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы
1880 год ознаменован в числе прочего выходом в свет настоящего романа М. Е. Салтыкова-Щедрина. Много чего с тех пор было высказано на его счет как лестного, так и не очень. Но автору предлагаемого вниманию читателя смысловедческого исследования представляется вполне уместным внести и свою посильную лепту в уже написанное совокупное «послесловие» в связи с «Господами Головлевыми». Почему? А потому, что похожей развернутой оценки известного литературного произведения, скорее всего, еще не было. Впрочем, не будем забегать вперед, так как замысел настоящего очерка имеет пока самый предварительный вид, а значит, в дальнейшем может быть изменен.
Кто и что, по мнению автора очерка, является самым главным в романе «Господа Головлевы»? Прежде всего, все те его герои, которые регулярно и настойчиво рассуждают о добродетели, о нравственности (морали). Это что касается по части персон. Теперь о ключевых смыслах всего произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина. Автора исследования интересуют опять же вопросы духовной (нравственной) жизни всякого человека как вопросы самые, на его взгляд, фундаментальные или главные. Поэтому-то как персоны, а точнее – связанные с ними характеры, так и присущие им смыслы духовного бытия и составляют основной материал для рассмотрения и изучения на предмет доказывания справедливости вынесенного в заголовок очерка утверждения.
Почти в самом начале повести в главе «Семейный суд» и в контексте заявленной темы исследования привлекают особое внимание слова Порфирия Владимировича Головлева, адресованные им по приезде в родное имение собственной матери (Арине Петровне): «Нет, голубушка маменька, и этого (судить да рядить родителя. – Авт.) не могу! Или лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять – вообще судить не могу (но ведь последнее утверждение уже само по себе есть продукт его предваряющего суждения. – Авт.). Вы мать – вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы – вы наградите нас, провинились – накажете. Наше дело – повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости – и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас (не отсюда ли, в самом деле, берет начало своими корнями замучившая российскую армию «дедовщина»? – Авт.). Кто знает? Может быть, это и нужно так!» То есть Порфирий Головлев, как ни относиться к нему, в данном случае волею автора романа произносит безупречные евангельские истины, а значит, в данной конкретной ситуации вполне адекватен ей, а значит, и морален. Впрочем, мать улавливает в речи сына и иное: «Стало быть, ты отказываешься (речь идет о тяжбе матери Порфирия и ее старшего сына Степана. – Авт.)? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами знаете!» Как мы видим, последними словами героини романа М. Е. Салтыков-Щедрин бросает своего рода вызов прозвучавшей до того евангельской проповеди сыновнего смирения. Иначе говоря, автор романа указывает на очевидное противоречие в церковном учении, а именно: он ясно фиксирует уязвимость всякой позиции «несуждения» как позиции очевидно трусливой и безответственной. Тем самым М. Е. Салтыков-Щедрин уже изначально ставит под сомнение непорочность известных христианских истин, так как легко вкладывает их в уста вполне себе порочных персонажей романа, получающихся чуть ли не родственными им по своему духу. Другими словами, он как бы говорит своему читателю, что всякий живущий в строгом соответствии с евангельскими проповедями не может не стать порочным, так как эти наставления насквозь противоречивы, а значит, при воплощении своем в жизни всякого лжецом делают. Далее Порфирий Головлев, как вполне себе исправный инквизитор, пытается усовестить Арину Петровну следующими речами: «А-а– ах! а что в писании насчет терпенья-то (речь в данном случае о необходимости терпения вблизи себя постылого сына Степана. – Авт.) сказано? В терпении, сказано, стяжите души ваши! в терпении – вот как!» То есть автор романа вновь прибегает к церковным поучениям, как бы насмехаясь над ними, предполагая, видимо, что подлинной правды в них и отродясь не было. Да и в самом деле, если терпеть, то без предела совсем надо, или предельчик тот уже всяк и сам для себя сообразить что ли сможет? Иначе говоря, М. Е. Салтыков-Щедрин усматривает в проповеди терпения одно лишь лукавство. С другой стороны, в Священном Писании все-таки речь идет не о терпении как таковом, в нем говорится об ином – о смирении. Последнее смыслом своим все же заметно отличается от названного до того терпения. Чем? А хотя бы тем, что терпение своим смыслом предполагает неизбежный предел, а также ресурс сил. Другими словами, терпение лишь внешне подобно смирению, тогда как сущностно с ним совсем не совпадает. Но что оно такое тогда будет? Смирение – это своего рода состояние растворенности, разлитости в мире. Оно же есть преодоление человеком с помощью веры в Бога самого себя, своего предпочтения. Иначе говоря, смирение – это сопричастность всему и вся, это служение сразу всему миру без какого-либо исключения. Таким образом, либо автор романа сам не ведает глубоко о смирении, либо лукаво записывает насчет христианства собственные грехи, создавая тем самым область недоверия к нему.
В главе «По-родственному» в ответ на открытый упрек Ариной Петровной самой себя в предательстве умирающего собственного сына Павла Владимировича Головлева Порфирий произносит весьма примечательное: «И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело ты говоришь. И если б я не был христианин, я бы тоже… попретендовать за это на тебя мог!» Как мы видим, М. Е. Салтыков-Щедрин, видимо, помимо воли своей вполне допускает для христианина мысль о возможности поступать не по-христиански, а значит, никак не усматривает в подлинном христианском образе бытия решительной необратимости даже в мысли. Другими словами, христианство для него всего лишь подобающая случаю «одежда», которую в крайности (в нужде) человеку можно и снять, хотя бы до подходящего времени. Тем самым автор романа как бы указывает своему читателю, что христианство – это лишь особая – душеспасительная выгода будет, и ничего более.
В главе «Семейные итоги» после кончины Павла Владимировича и переезда Арины Петровны из усадьбы Дубровино (имения Павла Владимировича, ставшего в последствии собственностью Иудушки) в деревню Погорелка Порфирий Владимирович, выполняя отдельные хозяйственные просьбы своей матери, указывает своим окружающим: «что всякому человеку положено нести от бога крест и что это делается не без цели, ибо, не имея креста, человек забывается и впадает в разврат». То есть М. Е. Салтыков-Щедрин как бы намекает посредством своего странного героя на то, что церковное учение – это своего рода кнут для лентяев и глупцов, понуждающий их знать свой долг и соответствовать ему вполне строго. Казалось бы, что тут печального и вообще найтись может? А то найтись может, что страх разврата, оказывается, и приводит человека к праведности, а вовсе не само целомудрие привлекательно ему вне чего-либо иного будет. Что тут еще сказать? А то, вероятно, что автор романа и сам страдал избыточным прагматизмом или стремлением к выгоде. Кстати, яркой иллюстрацией к последнему предположению, скорее всего, станет теория М. Е. Салтыкова-Щедрина о лицемерии, которую он развил в своем труде на примере исследования характера Порфирия Владимировича. В частности, он в связи с поставленным вопросом пишет такое: «Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и в довершение всего боялся черта. Все эти отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия». Кстати, В. И. Даль по части смысла названного понятия «лицемерие» посредством рассмотрения слова «лицемерный» указывает нам такое: «притворный, облыжный, где зло скрывается под личиною добра, порок под видом добродетели». Иначе говоря, автор романа склоняет своего читателя к той простой мысли, что Порфирию Владимировичу до лицемерия еще расти и расти, что он по этой части, как говорится, «рылом не вышел». Но почему так и где критерии сего (речь о лицемерии) «славного» качества натуры? Вот что в связи с этим пишет М. Е. Салтыков-Щедрин: «Лицемерие удерживает общество от разнузданности страстей и делает последнюю привилегией лишь самого ограниченного меньшинства». Во как! Оказывается лицемерие как смирительная рубашка упасает общественные нравы от их окончательного и полного распада! То есть лицемерие – это, оказывается, спасительный общественный регулятор или это, как ни крути, есть особое, пускай относительное, но все же – социальное благо. Но что же пишет автор романа далее? Он излагает своего рода обоснование до того им же провозглашенному пониманию: «Пока разнузданность страстей не выходит из пределов небольшой и плотно организованной корпорации – она не только безопасна, но даже поддерживает и питает традиции изящества. Но разнузданность становится положительно опасною, как только она делается общедоступною и соединяется с предоставлением каждому свободы предъявлять свои требования и доказывать их законность и естественность. Тогда возникают новые общественные наслоения, которые стремятся ежели не совсем вытеснить старые, то по крайней мере в значительной степени ограничить их». То есть М. Е. Салтыков-Щедрин на самом деле есть певец стабильности наличных общественных устоев, ярый консерватор или даже реакционер (противник принципиальный изменений). Он всерьез рассуждает о желательности воцарения в России царства лицемерия, хотя при этом пытается неловко дистанцироваться от прямой пропаганды его. В частности, это выглядит в романе так: «Вот от этих-то нежелательных возникновений (речь о сохранении пределов для разнузданности страстей. – Авт.) и вопросов и оберегает дирижирующие классы французского общества то систематическое лицемерие, которое не довольствуясь почвою обычая, переходит на почву легальности и из простой черты нравов становится законом, имеющим характер принудительный». Тем самым русский писатель предлагает русскому обществу вынужденное зло лицемерия как своего рода панацею от его сползания к распаду и погибели. Что еще примечательного заявляет в связи с темой лицемерия М. Е. Салтыков-Щедрин? Он дополнительно указывает такое: «Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или иных общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лгунов, пустосвятов и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких основ не знаем, и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, лжем и пустословим сами по себе, без всяких основ». Интересно, а сам автор романа применяет к себе написанный им же портрет русского человека или все-таки нет? Ежели да, то он и есть лжец и пустослов (то есть говорящий слова неосмысленно или глупо), пребывающий вне понимания каких-либо основ российской жизни, в противном случае он есть подлинный или французский лицемер, лишь скрывающий свой частный эгоистический интерес, состоящий, видимо, в том, чтобы под покровом наставительного разговора о лицемерии распространять свое личное презрение к стремлению к праведности как к стремлению непонятному и потому для него лично опасному. Но откуда это вдруг взялось самое последнее подозрение? – спросит некий читатель последних строк. А вот откуда. М. Е. Салтыков-Щедрин пишет в связи с лицемерием кроме уже нам известного рассуждения еще и такое характерное добавление: «Следует ли по этому случаю (речь о том, что русские люди прозябают, лгут и пустословят вне всяких основ. – Авт.) радоваться или соболезновать – судить об этом не мое дело. Думаю, однако ж, что если лицемерие может внушить негодование и страх, то беспредметное лганье способно возбудить докуку и омерзение. А потому самое лучшее – это, оставив в стороне вопрос о преимуществах лицемерия сознательного перед бессознательным или наоборот, запереться и от лицемеров, и от лгунов». То есть автор романа, оказывается, понимает себя и не лжецом, и не лицемером. Но тогда кто же он и что же он такое вообще? Праведник? Не похоже. Заблуждающийся на свой счет индивидуум? Да, он вполне укладывается в названный блуждающий в потемках смутный образ, который своим собственным носителем никак не распознается и не осознается. В результате, как ни поворачивай, М. Е. Салтыков-Щедрин есть лжеучитель либо по причине природного скудоумия, либо все-таки по лукавому нутру своему. Последнее предположение, к сожалению, и подходит вполне к облику легендарного писателя более всего, так как только оно, объективно (честно) говоря, и объясняет его теорию лицемерия как замену стремления человека к праведности вне каких-либо условий. С другой стороны, неужели воспитание, сориентированное на становление подлинной праведности, не сможет стать весьма достойной альтернативой насаждению лицемерия или твердого сохранения наличного и привычно лгущего себе и другим человеческого сознания? Да, подлинную праведность запросто стяжать никому не удастся, но упорная и настойчивая соответствующая воспитательная работа непременно даст отрадные всем всходы, которые и приведут Отечество в иное – в процветающее состояние. Впрочем, вряд ли это будет раем на земле, но уж дорогою к нему точно станет. Но за счет чего именно станет-то? – спросит скептически настроенный читатель очерка. А за счет научения всякого человека думать грамотно, а значит, и неизбежно понимать адекватно смыслы им думаемого и воспринимаемого. Другими словами, лишь подлинная разумность как соразмерность всему вполне осознаваемому и даст искомый всеми нами общественный результат. В нем уже для глупости и лицемерия как господствующей ныне тенденции принципиально не будет места, так как всякий грамотно мыслящий человек, с одной стороны, будет внутренне свободен и от первого, и от второго пороков, с другой – сможет легко обнаруживать названные выше слабости во вне себя и сможет также вполне себе успешно предотвращать распространение как самих названных выше погибельных свойств, так и присущих им же последствий.



