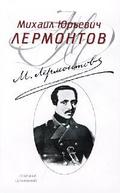Михаил Лермонтов
Сашка
105
«Послушайте, я здесь в последний раз.
Пренебрегла опасность, наказанье,
Стыд, совесть – всё, чтоб только видеть вас,
Поцеловать вам руки на прощанье
И выманить слезу из ваших глаз.
Не отвергайте бедную, – довольно
Уж я терплю, – но что же?.. Сердце вольно…
Иван Ильич проведал от людей
Завистливых… Всё Ванька ваш, злодей, —
Через него я гибну… Всё готово!
Молю!.. о, киньте мне хоть взгляд, хоть слово!
106
«Для вашего отца впервые я
Забыла стыд, – где у рабы защита?
Грозил он ссылкой, бог ему судья!
Прошла неделя, – бедная забыта…
А всё любить другого ей нельзя.
Вчера меня обидными словами
Он разбранил… Но что же перед вами?
Раба? игрушка!.. Точно: день, два, три
Мила, а там? – пожалуй, хоть умри!..»
Тут началися слезы, восклицанья,
Но Саша их оставил без вниманья.
107
«Ах, барин, барин! Вижу я, понять
Не хочешь ты тоски моей сердечной!..
Прощай, – тебя мне больше не видать,
Зато уж помнить буду вечно, вечно…
Виновны оба, мне ж должно страдать.
Но, так и быть, целуй меня в грудь, в очи, —
Целуй, где хочешь, для последней ночи!..
Чем свет меня в кибитке увезут
На дальний хутор, где Маврушу ждут
Страданья и мужик с косматой бородою…
А ты? – вздохнешь и слюбишься с другою!»
108
Она заплакала. Так или нет
Изгнанница младая говорила,
Я утверждать не смею; двух, трех лет
Достаточна губительная сила,
Чтобы святейших слов загладить след.
А тот, кто рассказал мне повесть эту, —
Его уж нет… Но что за нужда свету?
Не веры я ищу, – я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток,
Где свиньи и вино так ныне редки,
И где, как пишут, жили наши предки!
109
Она замолкла, но не Саша: он
Кипел против отца негодованьем:
«Злодей! тиран!» – и тысячу имен,
Таких же милых, с истинным вниманьем,
Он расточал ему. Но счастья сон,
Как ни бранись, умчался невозвратно…
Уже готов был юноша развратный
В последний раз на ложе пуховом
Вкусить восторг, в забытии немом
Уж и она, пылая в расслабленье
Раскинулась, как вдруг – о, провиденье! —
110
Удар ногою с треском растворил
Стеклянной двери обе половины,
И ночника луч бледный озарил
Живой скелет вошедшего мужчины.
Казалось, в страхе с ложа он вскочил, —
Растрепан, босиком, в одной рубашке, —
Вошел и строго обратился к Сашке:
«Eh bien, monsieur, que vois-je?» – «Ah, c'est vous!»
«Pourquoi ce bruit? Que faites-vous donc?» – «Je f<..>!»[4]
И, молвив так (пускай простит мне муза),
Одним тузом он выгнал вон француза.
111
И вслед за ним, как лань кавказских гор,
Из комнаты пустилася бедняжка,
Не распростясь, но кинув нежный взор,
Закрыв лицо руками… Долго Сашка
Не мог унять волненье сердца. «Вздор, —
Шептал он, – вздор: любовь не жизнь!» Но утро
Подернув тучки блеском перламутра,
Уж начало заглядывать в окно,
Как милый гость, ожиданный давно,
А на дворе, унылый и докучный,
Раздался колокольчик однозвучный.
112
К окну с волненьем Сашка подбежал:
Разгонных тройка у крыльца большого.
Вот сел ямщик и вожжи подобрал;
Вот чей-то голос: «Что же, всё готово?»
– «Готово». – Вот садится… Он узнал:
Она!.. В чепце, платком окутав шею,
С обычною улыбкою своею,
Ему кивнула тихо головой
И спряталась в кибитку. Бич лихой
Взвился. «Пошел!»… Колесы застучали…
И в миг… Но что нам до чужой печали?
113
Давно ль?.. Но детство Саши протекло.
Я рассказал, что знать вам было нужно…
Он стал с отцом браниться: не могло
И быть иначе, – нежностью наружной
Обманывать он почитал за зло,
За низость, – но правдивой мести знаки
Он не щадил (хотя б дошло до драки).
И потому родитель, рассчитав,
Что укрощать не стоит этот нрав,
Сынка, рыдая, как мы все умеем,
Послал в Москву с французом и лакеем.
114
И там проказник был препоручен
Старухе-тетке самых строгих правил.
Свет утверждал, что резвый Купидон
Ее краснеть ни разу не заставил.
Она была одна из тех княжен,
Которые, страшась святого брака,
Не смеют дать решительного знака
И потому в сомненьи ждут да ждут,
Покуда их на вист не позовут,
Потом остаток жизни, как умеют, —
За картами клевещут и желтеют.
115
Но иногда какой-нибудь лакей,
Усердный, честный, верный, осторожный,
Имея вход к владычице своей
Во всякий час, с покорностью возможной,
В уютной спальне заменяет ей
Служанку, то есть греет одеяло,
Подушки, ноги, руки… Разве мало
Под мраком ночи делается дел,
Которых знать и чорт бы не хотел,
И если бы хоть раз он был свидетель,
Как сладко спит седая добродетель.
116
Шалун был отдан в модный пансион,
Где много приобрел прекрасных правил.
Сначала пристрастился к книгам он,
Но скоро их с презрением оставил.
Он увидал, что дружба, как поклон —
Двусмысленная вещь; что добрый малый
Товарищ скучный, тягостный и вялый;
Чуть умный – и забавен и сносней,
Чем тысяча услужливых друзей.
И потому (считая только явных)
Он нажил в месяц сто врагов забавных.
117
И снимок их, как памятник святой,
На двух листах, раскрашенный отлично,
Носил всегда он в книжке записной,
Обернутой атласом, как прилично,
С стальным замком и розовой каймой.
Любил он заговоры злобы тайной
Расстроить словом, будто бы случайно;
Любил врагов внезапно удивлять,
На крик и брань – насмешкой отвечать,
Иль, притворясь рассеянным невеждой,
Ласкать их долго тщетною надеждой.
118
Из пансиона скоро вышел он,
Наскуча всё твердить азы да буки,
И, наконец, в студенты посвящен,
Вступил надменно в светлый храм науки.
Святое место! помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками.
119
Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут… Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно входит, кланяется чинно, —
Он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят;
Уходит, – втрое хуже. Сущий ад!..
По сердцу Сашке жизнь была такая,
И этот ад считал он лучше рая.
120
Пропустим года два… Я не хочу
В один прием свою закончить повесть.
Читатель знает, что я с ним шучу,
И потому моя спокойна совесть,
Хоть, признаюся, много пропущу
Событий важных, новых и чудесных.
Но час придет, когда, в пределах тесных
Не заключен и не спеша вперед,
Чтоб сократить унылый эпизод,
Я снова обращу вниманье ваше
На те года, потраченные Сашей…
121
Теперь героев разбудить пора,
Пора привесть в порядок их одежды.
Вы вспомните, как сладостно вчера
В объятьях неги и живой надежды
Уснула Тирза? Резвый бег пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась поздно…
Растрепанные волосы назад
Рукой откинув и на свой наряд
Взглянув с улыбкой сонною, сначала
Она довольно долго позевала.
122
На ней измято было всё, и грудь
Хранила знаки пламенных лобзаний.
Она спешит лицо водой сплеснуть
И кудри без особенных стараний
На голове гребенкою заткнуть;
Потом сорочку скинула, небрежно
Водою обмывает стан свой нежный…
Опять свежа, как персик молодой.
И на плеча капот накинув свой,
Пленительна бесстыдной наготою,
Она подходит к нашему герою,
123
Садится в изголовьи и потом
На сонного студеной влагой плещет.
Он поднялся, кидает взор кругом
И видит, что пора: светелка блещет,
Озарена роскошным зимним днем;
Замерзших окон стекла серебрятся;
В лучах пылинки светлые вертятся;
Упругий снег на улице хрустит,
Под тяжестью полозьев и копыт,
И в городе (что мне всегда досадно),
Колокола трезвонят беспощадно…
124
Прелестный день! Как пышен божий свет!
Как небеса лазурны!.. Торопливо
Вскочил мой Саша. Вот уж он одет,
Атласный галстук повязал лениво,
С кудрей ночных восторгов сгладил след;
Лишь синеватый венчик под глазами
Изобличал его… Но (между нами,
Сказать тихонько) это не порок.
У наших дам найти я то же б мог,
Хоть между тем ручаюсь головою,
Что их невинней нету под луною.
125
Из комнаты выходит наш герой,
И, пробираясь длинным коридором,
Он видит Катерину пред собой,
Приветствует ее холодным взором,
И мимо. Вот он в комнате другой:
Вот стул с дрожащей ножкою и рядом
Кровать; на ней, закрыта, кверху задом
Храпит Параша, отвернув лицо.
Он плащ надел и вышел на крыльцо,
И вслед за ним несутся восклицанья,
Чтобы не смел забыть он обещанья:
126
Чтоб приготовил модный он наряд
Для бедной, милой Тирзы, и так дале.
Сказать ли, этой выдумке был рад
Проказник мой: в театре, в пестрой зале
Заметят ли невинный маскарад?
Зачем еврейку не утешить тайно,
Зачем толпу не наказать случайно
Презреньем гордым всех ее причуд?
И что молва? – Глупцов крикливый суд,
Коварный шопот злой старухи, или
Два-три намека в польском иль в кадрили!
127
Уж Саша дома. К тетке входит он,
Небрежно у нее целует руку.
«Чем кончился вчерашний ваш бостон?
Я б не решился на такую скуку,
Хотя бы мне давали миллион.
Как ваши зубы?.. А Фиделька где же?
Она являться стала что-то реже.
Ей надоел наш модный круг, – увы,
Какая жалость!.. Знаете ли вы,
На этих днях мы ждем к себе комету,
Которая несет погибель свету?..
128
«И поделом, ведь новый магазин
Открылся на Кузнецком, – не угодно ль
Вам посмотреть?.. Там есть мамзель Aline,
Monsieur Dupré, Durand, француз природный,
Теперь купец, а бывший дворянин;
Там есть мадам Armand; там есть субретка
Fanchaux – плутовка, смуглая кокетка!
Вся молодежь вокруг ее вертится.
Мне ж всё равно, ей-богу, что случится!
И по одной значительной причине
Я только зритель в этом магазине.
129
«Причина эта вот – мой кошелек:
Он пуст, как голова француза, – малость
Истратил я; но это мне урок —
Ценить дешевле ветреную шалость!»
И, притворясь печальным сколько мог,
Шалун склонился к тетке, два-три раза
Вздохнул, чтоб удалась его проказа.
Тихонько ларчик отперев, она
Заботливо дорылася до дна
И вынула три беленьких бумажки.
И… вы легко поймете радость Сашки.
4. «Ну, сударь, что я вижу?» – «Ах, это вы!»
«Что это за шум? Что вы делаете?» – «Я <…>!» (Франц.)