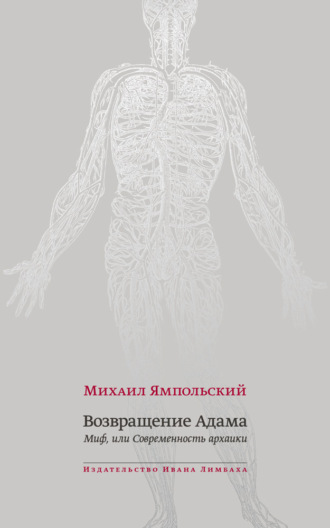
Михаил Ямпольский
Возвращение Адама. Миф, или Современность архаики
© М. Б. Ямпольский, 2022
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2022
© Издательство Ивана Лимбаха, 2022
То, что в наше время является самым
современным, часто оказывается
самым архаическим.
Гай Давенпорт[1]
Предисловие
Миф о мифе
В 2020 году я опубликовал книгу «Ловушка для льва. Модернистская форма как способ мышления без понятий и „больших идей“». В этой книге меня интересовали генезис и функционирование художественной формы модернистской культуры. Чем больше я погружался в материал, тем больше убеждался в том, какое большое место в модернизме заняло искусство «примитивных народов» – племен Африки, Америки и Океании. Конечно, интерес авангарда к «примитивным» культурам – явление хорошо известное и основательно изученное. Обращение к этим культурам в рамках ультрамодернизма, как мне раньше казалось, может быть понято через анализ форм, предлагавших уход от классического европейского миметизма, основанного на идее адекватности изображения вещи. Моя оптика в итоге была в основном настроена на модернистские тексты и их формальные конфигурации.
«Возвращение Адама» – в каком-то смысле продолжение «Ловушки для льва», но угол зрения здесь смещен в сторону архаических форм мышления, которые я идентифицирую с мифом. Отчасти это связано с тем, что я постепенно утрачивал веру в субстанциальность сугубо современной культуры (или культуры модерна). Одна из задач этой книги – развенчание представлений о существовании некой «актуальной культуры», влекущей за собой устаревание того, что было создано раньше. Я, конечно, не отрицаю существование книг или фильмов, отражающих сегодняшний день. У меня нет сомнений и в том, что форма этих произведений иная, чем в прошлые эпохи. Но чем внимательней я вглядывался в подчеркнуто «актуальные» произведения (в частности, заточенные под популярные политические или идеологические тренды), тем более я убеждался в том, что их актуальность выражается прежде всего в мгновенном устаревании, в то время как некоторые менее «актуальные» вещи обладают способностью сохранять свою современность значительно дольше. В конце концов я пришел к выводу, что часто непреходящая современность укоренена в широком использовании архаического[2].
К постановке этих вопросов и написанию этой книги меня подтолкнула поэзия Владимира Гандельсмана, особенно замечательная сложная «Велимирова книга»[3]. Поэзия Гандельсмана широко использует мифы, но в «Велимировой книге» предпринята попытка создать миф русского литературного авангарда, в котором Хлебников и близкие ему поэты выступают как персонажи первичного мифа о сотворении мира. Это поразительное по литературной силе соединение авангарда и крайней архаики подтолкнуло меня на более тщательное исследование данной проблематики. «Велимирова книга» и другие произведения поэта проходят пунктиром через три первые части книги, а Гандельсман играет в ней роль Вергилия.
О возвращении мифа в современной культуре написано много. Чаще всего это связывается с современным иррационализмом и растущим интересом к оккультизму и неоязычеству. Возрождение мифа, особенно в ХХ веке, сопровождалось активным его использованием в идеологиях политического тоталитаризма. Хорошо известно, до какой степени нацизм питался фантазиями на тему германских, арийских и иных нордических мифологий, восходящими к Шеллингу или к Вагнеру. Я не собираюсь углубляться в структуры тоталитарного мифа, который в контексте этой книги мало меня интересует. Но невозможно и обойти стороной странную и парадоксальную связь модернисткого интереса к мифу со сходным интересом тоталитарных по своей сущности политических движений. Я ограничусь очень поверхностным рассмотрением этого вопроса в рамках предисловия и не буду больше к нему возвращаться.
Близость авангарда тоталитаризму была рассмотрена в известной книге Бориса Гройса «Gesamtkunstwerk Сталин», где, впрочем, мифу не уделялось внимания. Близость эта, по мнению автора, крылась в «прометеевской» идеологии коммунистического государства и левого искусства, которые ставили перед собой цель глубинной трансформации природы: «Еще до революции художники-авангардисты провозгласили окончательную „победу над солнцем“ – то есть над природой, олицетворяемой солнечным светом, заменой которому должен был стать новый, электрический свет. Эти художники утверждали, что в основе их искусства лежит ничто и что они вышли за нулевую точку, за которой искусственное полностью освобождается от естественного»[4].
Мне представляется, что тоталитарные мифы в большинстве своем выражают движение в сторону реставрации природы, попранной ложным развитием цивилизации. Так, например, «Миф ХХ века» Альфреда Розенберга – общепризнанная «библия» нацистов – излагает историю первичной слиянности рассудка и воли в арийских расах, но это единство нарушается «цепкостью джунглей Ближнего Востока»[5], то есть извращенным еврейским рационализмом, создающим разделение на «духовного» и так называемого «приземленного человека». Этот человек «руководствующийся лишь инстинктами, близок к природе, однороден и полон жизни, духовный же далек от всего этого, действительности не соответствует»[6]. Преодоление этого разделения Розенберг видит в возвращении к «солнечному мифу всех ариев», который «представляет собой одновременно космическую и близкую к природе законность жизни»[7]. Отказ от солнечного мифа ариев равноценен погружению в «духовно-хаотическое состояние».
Один из вдохновителей возвращения к мифу Людвиг Клагес писал в 1913 году: «…ни в одном случае человек не смог успешно изменить природу»[8]. Более того, всякая борьба с природой, частью которой является человек, ведет к саморазрушению последнего. Клагес очень показателен для всей этой проблематики. Как известно, он различал душу (Seele) и дух (Geist), близкий понятию разума, или интеллекта. Это различие восходит к «Возникновению животных» Аристотеля[9], разграничившего «питательную», «чувствующую» души животных и даже растений и разум. Чувствующая душа, производящая движения тела, по мнению Аристотеля, не могла быть внесена в тело извне. «Остается только разуму входить извне и ему одному быть божественным, ибо его деятельность не имеет ничего общего с телесной деятельностью»[10], – писал Стагирит. Внесенный извне дух, по мнению Клагеса, разрушает нашу витальность[11], членит нас изнутри и отделяет от полноты жизни. Дух провозглашается им противником души. В неистовстве и экстазе это искусственное расщепление преодолевается, и человек обретает первоначальное единство. Отсюда особое значение экстатического в тоталитарном мифотворчестве, на которое Клагес оказал сильное влияние[12].
Иной взгляд на «соприродность» тоталитаризма и авангарда предложил французский философ Филипп Серс. Он утверждает, что за многообразием авангардных форм кроется единство искусства радикального модернизма. Это единство опирается на противопоставление «пластическому формализму» «постоянства внутреннего принципа – то есть морфогенетической связности»[13]. В соответствии с этим принципом все разнообразие внешних форм возводится к единству «внутреннего опыта». Поскольку все сводится лишь к внутреннему чувству (моделью такого художника для Серса служит Кандинский, которому он посвятил книгу[14]), возникает эффект индифферентности к любым внешним различиям и ахроничность, выход за рамки времени. Речь идет о том, что Серс называет «оценочной индифферентностью», ее же он обнаруживает и в тоталитаризме. Я не хочу входить в детали аргументации Серса, стремящегося показать, что за кажущимся антагонизмом авангарда и тоталитаризма кроется их «соприродность», укорененная в принципе «единого», которое, по его мнению, выражается в интересе к трансцендентному и оккультному, характерному как для того, так и для другого. Серс, например, говорит о том, что тоталитарное искусство «опирается на основополагающее слово»[15] – первичный исток образов, способных воздействовать на действительность. Это почти мифическое слово претендует на неотделенность от реальности и слитность с ней: «…утверждается в правах основополагающая речь <…> За этим следует радикальное отвержение и устранение всяческих различий. Место различия занимает теперь убедительный и наглядный образ основополагающей речи…»[16] «Внутренний опыт» авангардиста и «основополагающая речь» тоталитаризма – и то и другое выступают как трансцендентные принципы единства.
В целом я не согласен с серсовской трактовкой авангарда как манифестации внутреннего опыта. Я не вижу в авангарде организующего трансцендентального принципа (несмотря на внешний интерес к оккультизму), более того, мне кажется, что, хотя авангард и несет в себе (как Малевич или Хлебников) следы символизма, он преодолевает этот символизм через постепенное обращение к внешнему, а не к внутреннему. Серс интересен мне в той мере, в какой он ставит проблему морфогенетического, основополагающего, единого во главу угла. А это и есть проблема «природы», или мифа, или изначального.
В той мере, в какой в мифе многие его поклонники видели возможность восстановить утраченную связь цивилизации с природой, речь шла о восстановлении некоего первичного и впоследствии утраченного единства человека и мира. Такое восстановление казалось возможным только ценой уничтожения просвещенческого рационализма и связанной с ним идеи прогресса. Эпоха Просвещения, несмотря на постепенно растущий интерес к мифу[17], относилась к последнему как к проявлению суеверий, характерных для варварских и примитивных народов. Надо сказать, что такое отношение было укоренено в жесткой критике мифа, дошедшей до Нового времени из античности, в частности от Платона, который хотя и использовал собственные («правильные») мифы, характеризовал их в целом как «сказки», имеющие хождение в обществе и воспроизводящие стереотипы «коллективной памяти». Он говорил о мифах как о низшем по сравнению с логосом и философией типом дискурса, не верифицируемым, не имеющим отношения к истине и не основанным на логической аргументации[18]. Именно отсюда ведет начало европейская история отделения логоса от мифа. Кстати, слово «мифология» впервые возникает у Платона.
Радикальное изменение отношения к мифу в XVIII веке связано с именем Джамбаттиста Вико[19], который отказывается от такого противопоставления и делает это под знаком всеобщей истории. В «Автобиографии» он сообщает о себе: «Вико открывает эту Новую науку посредством нового Критического искусства – находить истину об основателях наций в глубине народных преданий, сохранившихся у основанных ими наций…»[20] Иными словами, мифы из абсурдных суеверий превратились в некий постоянно присутствующий первичный субстрат, который проявляет себя во всем, что создает человек, в том числе и в логосе.
Человеческое творчество (в числе прочего – истории и общества) не может следовать принципам божественного творения: «…первые люди Языческих наций, как дети возникающего человеческого рода <…>, творили вещи соответственно своим идеям. Однако их творение тем бесконечно отличалось от творения Бога, что Бог в своем чистейшем понимании знает и, зная, творит вещи; они же, вследствие своего полного неведения, делали это под влиянием привязанного к телу воображения»[21]. Это первичное творение мира и истории подчинялось не рациональным основаниям, но воображению, которое лежит в основе поэзии. Поэтому первые творцы «были названы Поэтами, что по-гречески значит то же, что и „творцы“»[22]. Поэзия и зафиксированные в ней мифы – матрицы такого творения. В них непосредственно отражается природа, фиксируемая в именах языка.
Доступ к этой первичной «поэтической мудрости» открывается через язык и этимологию. Восстановление такого первичного языкового и мифологического субстрата может оказаться ключом, по мнению Вико, к построению научной всеобщей истории. В «Автобиографии» Вико пишет о себе: «Вико дает идею Этимологического Словаря, общего для всех туземных языков, и также идею другого Этимологического Словаря для слов иностранного происхождения, чтобы растолковать, в конце концов, идею всеобщего Этимологического Словаря, необходимого как для науки о языке, так и для соответствующего рассмотрения Естественного Права Народов. Такими основаниями как идей, так и языков, иными словами – такой Философией и Филологией рода человеческого Вико разъясняет Вечную Идеальную Историю, протекающую соответственно Идее Провидения…»[23]
Поскольку в мифе заключена генеративная сила истории и культуры, он становится в глазах Вико носителем истины, а не выдумки[24]. Вещи являются, по мнению Вико, продуктами воображения, фиксируемого в мифах и словах… «Когда же мы размышляем об этом происхождении, открываются новые принципы мифологии и этимологии, и становится ясно, что сказки и правдивая речь были когда-то едины в своем значении и что они составляли словарь первых наций»[25]. На место классической рациональности Вико ставил воображение, связанное с вещами и телом и восходящее к мифам.
Говоря о воображении, Вико различал ingenium и phantasia. Первое царило в практических сферах и точных науках. Phantasia же традиционно идентифицировалась с мифами, которые хотя и обладали творящей силой, были укоренены в памяти. Как замечает Сесилия Миллер, «Вико не всегда ясно отличал в своих писаниях воображение от памяти»[26]. Эта странность только кажущаяся, ведь генеративная сила воображения лежит в прошлом, пребывающем в памяти мифов и языка. Именно поэтому общество и история в такой степени неразрывно связаны с поэзией. Джозеф Мали так формулирует основную задачу Вико: «…высшей целью Вико было, в противоположность Платону, установление поэзии, а не философии основанием человеческого сообщества, <…> так как искусства – это не что иное, как подражание природе, и в каком-то смысле „подлинные“ поэмы были написаны не словами, но вещами»[27]. Именно поэтому этимологии через историю слов были способны восстановить историю вещей. Более того, эта отложенная в генеалогиях и мифах память может умирать, но следы ее неискоренимы и могут быть реанимированы. Здесь уже кроются корни теории архетипов Юнга.
В конечном итоге именно через мифы человек способен восстанавливать утраченные связи с природой. Эти идеи были высказаны Вико в первой трети XVIII века, но приобрели все свое значение только с приходом романтизма. А к началу XX века стали общим местом, хотя роль Вико в этом процессе стала понятной позже. Тоталитарные мифы (особенно фашистские) придавали огромное значение этому восстановлению связей с природой через миф. Но и в кругу радикальных социалистов миф начал занимать заметное место, например у Жоржа Сореля, считавшего, что только миф может обеспечить революционное слияние масс.
Имеет смысл коротко взглянуть на то, какую форму принимает тоталитарное возрождение мифа в XX веке. Хорошим примером тут может послужить фигура Вотана-Одина, одного из высших богов нордической мифологии. В 1845 году немецкий химик барон Карл фон Райхенбах, известный своими исследованиями парафина и креозота, объявил об открытии неуловимой силы, которая пронизывает все мироздание. Он назвал эту силу одической. Странность ее заключалась в том, что она была абсолютно неуловимой и лишенной всяких манифестаций. Единственная возможность ее почувствовать зависела от повышенной чувствительности некоторых индивидов. Невозможность создания прибора («одоскопа») для ее обнаружения и измерения «вытекала из ее способности проникать сквозь любые материю и пространство, не задерживаясь в какой-либо точке, не производя сгущения, позволяющего ей достичь уровня общей восприимчивости. <…> Я никогда не был способен открыть и выделить од»[28].
Само название этой всепронизывающей силы было произведено от имени Одина.
Райхенбах снабдил это название ученым комментарием: «Va на санскрите значит „двигаться вокруг“. Vado по латыни и vada в старом нордическом означает „я быстро двигаюсь, лечу, мчусь“. Отсюда Wodan в старогерманском выражает идею „всеобщего трансцендирующего“; в разных старых наречиях он появляется как Wuidan, Odan и Odin, обозначающие способность пронизывать всю природу, в конечном счете воплощенную в германском боге. Od – соответственно – слово, выражающее динамизм силы, которая не может быть остановлена, мгновенно проникает и движется через все в мире»[29].
В изобретении ода природа и миф сошлись в именах и этимологиях. А сам генеративный миф природы приобретает черты, которые надолго закрепятся в европейских представлениях о мифе. За персонификацией и именем всегда кроется стихийная, изменчивая и неуловимая сила, которая дисперсна и избегает любого улавливающего ее культурного «одоскопа». На протяжении XIX века интерес к Вотану постоянно возрастал, покуда оккультист – автор популярных романов Гвидо фон Лист и возглавляемое им Общество Листа в начале XX столетия не основали гностическую религию вотанизм (Wotanism)[30].
В 1936 году Карл Густав Юнг посвятил возрождению архетипа Вотана в нацистском движении восторженную статью, где он писал о возрождении забытого культа забытого бога, который проснулся как погасший вулкан. В этой статье Вотан описан как бог-странник, северная ипостась Диониса, бог бури и неистовства, войн, ветра и стихий. В нем находят отражения множество античных богов, придавая ему исключительную многоликость: «Он странствует, например, как Меркурий; правит смертями, как Плутон и Кронос, и с Дионисом его связывает эмоциональное неистовство, особенно в гадательном аспекте»[31].
Эта множественность становится ключом к современному пониманию мифов, персонажи которых никогда не укладываются в рамки одной фигуры, одного имени, одной истории. Ричард Радгли пишет о множественности аспектов Вотана-Одина, известного под более чем двумя сотнями имен. Он и Властелин копья, и Отец армии и Носитель победы и Волк битвы. Он бог погибших, колдун и маг, известный как Медведь, Орел и Вороний бог. Он – покровитель поэзии и вдохновитель поэтов – Седая борода, Великий поэт, Истинный, Наимудрейший, Загадыватель загадок, Вводящий в заблуждение, Носитель зла, Возлюбленный, Любовник, Друг богатства и даже Гермафродит[32]. Дюмезиль описывал Одина как воплощение беспринципной свободы и изменчивости[33].
Вопрос, который постоянно ставила столь многоликая неопределенность, характерная для мифа: как придать этой противоречивой невнятице аспектов какой-то унифицирующий смысл?[34] И в ответе на этот вопрос, как мне представляется, и проходит граница между тоталитарными и авангардными мифами. Миф всегда многолик и неустойчив, и в этом его интерес. Но тотализирующий взгляд, обнаруживая эту противоречивость и многообразие, находит способ их преодолеть. Радгли указывает на то, что ключ к единству Одина заключен в его имени, которое переводится как Неистовый. Неистовство, или одержимость, определяет как его поведение на поле брани, так и его связь с поэзией, магией, вдохновением: «Неистовство в битве, поэтическое вдохновение, магический транс, сексуальный экстаз, наркотические галлюцинации – все эти аспекты Одина воплощают измененное состояние сознание. Таким образом, он – бог измененного сознания…»[35] Конечно, это суждение не может быть принято без критики. Но еще Юнг писал об Одине как воплощении «furor teutonicus» – тевтонского неистовства[36].
До Юнга эти идеи высказывали два представителя школы германиста Рудольфа Муха – Элизабет Вайзер-Ааль и Отто Хёфлер. Вайзер в 1927 году в своей докторской диссертации исследовала «экстатический» фольклор «Дикой охоты» в контексте реконструируемых ею ритуалов мистической инициации воинов[37]. Юнг лишь присоединяется к мифотворчеству немецких националистических фольклористов.
Стихийная неукротимость Одина объединяет все его аспекты. Неистовство – способ интенсивного размывания разноликового в некой неопределимой стихийности, отсылающей к единству внутреннего опыта Серса. В итоге Один являет себя в виде некоего сверхединства, напоминающего лидера масс – фюрера: «…немецкий бог представляет цельность, относящуюся к первобытному уровню, к психологическому состоянию, в котором человеческая воля почти идентична божественной и, значит, целиком в руках судьбы»[38].
Это сведение множественности к единству и является, на мой взгляд, главной особенностью тоталитарного понимания мифа. Каким бы несводимым к целостности ни был миф, достаточно найти некое общее свойство персонажей, как эта многоликость слипается в нерасчленимость. Юлиус Эвола вполне в духе такой трансформации неопределимых богов и стихий в фигуру власти писал о мифологии расы, «созидающей вождей», и о древнегерманском короле как «аватаре, оформленном проявлении самого Одина-Водана»[39].
«Авангардное» понимание мифа сопротивляется установке на слияние множественности в единство, подобное слиянности индивидов в толпе или массе. Модернистское понимание мифа (и оно хорошо представлено у Гандельсмана) отражает кризис унифицированного субъекта и связанной с ним системы репрезентации. Модернизм апроприирует множественность и многоликость как принципиальное свойство архаики, особо затребованное современностью. В книге я специально обсуждаю проблему множественности времени (анахронизма), распада генеалогий и членимости персон, фигур и индивидов. С такой точки зрения традиционализм, всегда и все сводящий к идее единства, в конечном счете – фигуре лидера или короля, безнадежно устарел и является не столько возрождением архаики, сколько ее тотализирующим искажением.
Правда, простая двоичность тоталитарного и модернистского во многом является упрощением. Марк Антлифф опубликовал увлекательное исследование апроприации французским фашизмом некоторых совершенно противоположных духу тоталитаризма идей, например бергсоновского витализма (что особенно удивительно, если принять во внимание еврейство Бергсона). Антлифф показал, как Жорж Сорель, прилежный слушатель Бергсона в Коллеж де Франс, вдохновленный идеями Бергсона и Вико, сформулировал идею связи революционного действия и мифа, которая была усвоена такими французскими фашистами и монархистами-синдикалистами, как Эдуард Берт, Жорж Валуа, Жан Варио вплоть до Муссолини, признававшего, что Сорель был одним из главных источников его идеологии и политики[40].
Сказанного достаточно, чтобы понять – миф не является чем-то извечно существующим и постоянно проявляющимся (как у Вико или Юнга). Миф – это не только реалия и фактор архаической культуры. Он постоянно возникает в культуре как трансформирующееся зеркало ее состояния. В этом смысле он всегда оказывается современным конструктом. Работа Фрейда с мифами – прекрасный тому пример.
Вико или Кассирер полагали, что мифы – это некие субстанциальные сущности, которые продолжают воздействовать на культуру в течение тысячелетий. Но сегодняшний подход настолько радикально отрицает всякую субстанциальность мифа, что невольно возникает вопрос – существует ли миф вообще, или это нечто, придуманное для практических нужд культуры. Жорж Дюмезиль признавался, что за всю свою жизнь так и не смог установить, в чем заключается различие между мифом и фольклором[41]. Другой выдающийся антрополог – Клод Леви-Стросс в эссе о фольклористике В. Я. Проппа солидаризировался с последним в том, что различие между сказкой и мифом трудно установимо: «Пропп прав. Не существует сколько-нибудь серьезных оснований для изоляции сказки от мифа, несмотря на то что субъективно очень многие общества ощущают разницу между этими двумя жанрами <…>. Известно, что повествования, которые в одном обществе трактуются как сказки, в другом воспринимаются как мифы, и наоборот, – вот первая причина, побуждающая остерегаться произвольных классификаций»[42]. Сара Айлс Джонсон начинает свою книгу о мифе с утверждения: «Слово „миф“, как хорошо известно, – скользкий зверь», которого невозможно ухватить. Оно, по ее выражению, «капризно и обманчиво туманно». Джонсон приводит целый ряд дефиниций мифа, каждое из которых не покрывает всей сложности этого феномена: традиционная история, смысл которой разделяется сообществом (Вальтер Буркерт), социально важный нарратив (Уильям Беском), идеология в нарративной форме (Брюс Линкольн), картина космоса, локализующая универсальные силы (Мери Майлс) и т. д.[43]
Вопрос о том, что такое миф в исторической перспективе, был поставлен в 1981 году Марселем Детьеном в книге «Изобретение мифологии». Детьен показал, что уже для греков миф был неуловимым, переменчивым и обманчивым феноменом. Греки противопоставляли слово muthos правдивому рассказу. Еще Пиндар осуждал разнообразные muthoi как лживые, противопоставляя их правдивому рассказу – logos’у. Вместе с тем упоминания мифа у Пиндара или Геродота крайне редки (у Пиндара всего три раза, а у Геродота – два). Ксенофан относит мифы к разряду лживого – plasmata – и приписывает их варварским народам. Еще более решительно порывает с мифами как ложными и обманчивыми слухами такой рационалист, как Фукидид[44]. Мифы становятся «рассказами других», по отношению к которым возникает дистанция: «Слово других становится империей, заселенной сказками кочевников, длинными варварскими нарративами, через которые скачут конницы памяти, осемененной ветрами слов, которые являются ветреными словами»[45].
«Ветреные слова» – это устная речь, становящаяся все менее надежным источником знания по мере утверждения письменности. Сами мифы начинают записываться и переписываться логографами. Начинается систематическая работа по замене скандальных, аморальных и бессмысленных «ветреных слов» новыми письменными (более «правдивыми») мифами, как, например, у Платона. Миф же в его первичности все более и более ассоциируется со «скандалом» (как пишет Детьен) и безумием. Неистовое безумие, одержимость Одина в поздних интерпретациях – в каком-то смысле отражает представления древних греков. Грегори Нэги в рецензии на книгу Детьена заметил по этому поводу, что устные мифы не просто ассоциировались со слухами, сказками и «ветреными словами», но и с локальностью. Устная речь всегда местная, а письменная – универсальная. Локальность мифа позволяет ему быть укорененным в местных ритуалах, а перевод мифов в письменную мифологию универсализирует их и отрывает от прагматики ритуала. Нэги объясняет, что этимологически слово muthos (миф) и слово «мистик» (mustēs) связаны с глаголом muō, означающим «иметь закрытый рот или глаза»[46]. Эта слепота открывает дорогу к экстатическому неистовству ритуала, но блокирует дистанцированный взгляд разума (как мы помним по Аристотелю, всегда внешнего). Нэги указывает на то, что противопоставление локального панэлинистическому (универсальному) может быть источником семантической неопределенности мифа и сложности его понимания. Я бы добавил, что эта изменчивость местного во всеобщем – важное свойство мифа как такого.
Я говорю об этом потому, что уже в Древней Греции V века история, философия и другие формы рациональности используют миф как своего другого и в значительной степени формируют себя по отношению к его скандальности. При этом миф становится другим разума и оформляется через растущее метасознание эволюционирующей культуры. Возникает миф о мифе или миф мифа. Чем больше письменная рационализированная культура членит миф и критикует его с позиций рациональности, тем более неопределенным он становится, расщепляясь в этой оптике, нацеленной на выявление противоречий. Дело в том, что метасознание логоса оказывается неспособным совладать с мифом, который оно само превращает в «чужого», «варварского» и «дикого».
Когда теоретики XIX века открывают для себя миф, они (и об этом говорит Детьен) повторяют те же эпистемологические процедуры, что Фукидид или Платон тысячелетиями раньше. Это переизобретение мифа приходится, по мнению Детьена, на 1850–1890-е годы. Он различает два ответа на скандальность мифа в новой науке мифологии. Первый он связывает с компаративной мифологией Макса Мюллера и его последователей, видевших в ней попытки рационализировать нерациональность первичного языка. «Для Макса Мюллера мифология – это бессознательный продукт языка, который никогда не создается человеком, являющимся его жертвой»[47]. Мифология – это манифестация «болезни языка». Второе направление представлено в работах Эндрью Ланга и Эдварда Тайлора. Последние подходили к мифу как к проявлению сознания первобытных народов, в силу своей отсталости и неразвитости не способных избежать «диких» и «скандальных» элементов. И в том и в другом случае позитивистский рационализм XIX века формируется, отталкиваясь от образа суеверного первобытного сознания.
И только постепенно наука (и культура в целом) стала освобождаться от противопоставления универсального и рационального локальному и неопределенному. Культура сегодня неожиданно ощущает саму себя пронизанной мифом, вбирающей разные времена, нестабильные и неуловимые персоны, неопределенность имен и эпиклес (эпитетов, которые сопровождают имена богов) и т. д. Миф отчасти перерастает статус внешнего, скандального объекта рефлексии и становится ядром современности, которая неожиданно открывает в себе архаику и в этом открытии обогащает видение самой себя.
Связано это, на мой взгляд, с тем, что культура сегодня утрачивает свое единство и все больше являет себя как совокупность разных локальных культур (ср. с трендом мультикультурализма) и сочленение разных эпох и времен. Само понятие современности парадоксально. Оно буквально значит соприсутствие разного в одном времени. В нем содержится смысл, отрицающий единство, заключенный в понятии модерна как целой эпохи со своим началом и концом. По замечанию Ганса Роберта Яусса, слово «модерность» (modernity) в эпохальном смысле фиксирует отличие нынешнего от прошлого[48], а именно этого смысла нет в понятии со-временности. Модерный всегда противопоставлялся antiquitas. Именно многовременность и множественная локальность и есть фундаментальная черта мифа, которую со-временность обнаруживает в себе[49]. Миф со-временности в этом смысле являет себя прямой противоположностью тоталитарному мифу, стремящемуся трансцендировать множественность в Едином.
Венсан Декомб связал понятие со-временности с идеей актуальности (которая в этой книге понимается довольно критично). Со-временность для него – это не принадлежность к некой общей абстрактной хронологии, она заключена во взаимодействии разных, независимых друг от друга установок и взаимовлияющих видов деятельности: «Современные практики (activités contemporaines) современны потому, что тот факт, что они осуществляются в одно и то же время, понуждает их к взаимодействию во всех смыслах слова»[50]. Но для того чтобы влиять и взаимодействовать, они должны сохранять свою исходную разнородность. Современность в таком смысле слова всегда предполагает анахронизм.






