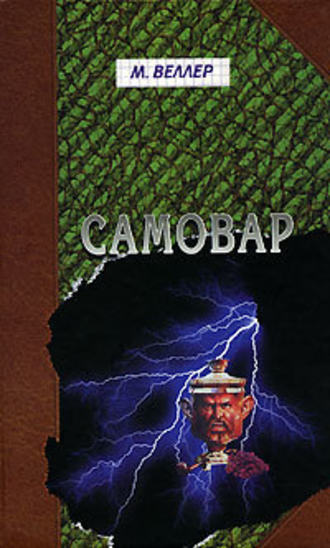
Михаил Веллер
Самовар. Б. Вавилонская
Глава II
Ночью в саду поет соловей.
У человека, который придумал, что утро вечера мудреней, наверняка был при себе полный комплект конечностей и устойчивая психика. Наше утро начинается как раз с вечера.
После отбоя (если не дают снотворного) мы полудремлем, дожидаясь первого извещения: тихого присвиста, краткой трели – настройка голоса. Увертюра крепнет, развивается в мелодию; мы открываем глаза и лежим, дыша тихо.
Луна сияет над миром и льет серебряный свет на недвижные ветви. И чарующая музыка услаждает наш слух. Приятно думать об этом именно так. Полноценностью жизни сейчас мы уравнены хоть с флибустьерами: кроме слуха все равно ничего не нужно.
Понятно, большой камень в пустоте отражает излучение комка огня в той же пустоте. А серый маленький птичк, пока его самка насиживает яйца, издает свои птичьи звуки. А все-таки приятно. Всю зиму мы ждали, когда прилетит наш соловей.
Кстати о соловьях. Маша прихлопнула на кухне нашего шмеля. Сама проболталась. Зараза… хочется уснуть с умиротворением, вспоминая хорошее. Но не всегда это удается.
…Пробуждение начинается с того, что Старик – Лев Ильич – кашляет. Он клекочет, как орел, и булькает, как лягушка, бронхи его трещат и поют на манер гармошки под сапогом драчуна. Ну и, спрашивается, с какими чувствами должен встречать человек новый день под такую сонату зверинца? Что называется, были б ноги – ушел бы на фиг куда глаза глядят. Курить он хочет. Курить ему пока не дадут. Могли б, конечно, и дать. Тут все курящие, протестов насчет заботы о здоровье товарищей не поступит. Да и на хрена товарищам такое здоровье. Больше удовольствий – короче мучение. Кому охота внимать его руладам. Пусть лучше заткнется папиросой.
Мы однажды поставили вопрос, что такое пробуждение с самого утра портит нам настроение, а это, как известно, отрицательно влияет на пищеварение и сказывается на отношениях внутри коллектива. И Старику смастерили кальян. Это был, конечно, не кальян, просто мы так его прозвали. Не такое уж хитрое устройство: по краю тумбочки вровень с подушкой закрепили зажигалку со шнурком и широкую пепельницу, на козырек которой клали несколько папирос. И Старик мог самостоятельно дотянуться ртом до шнурка, дернуть, зажигая огонек, взять в губы папиросу, прикурить, положить на место, снова дернуть шнурок, гася зажигалку, – и спокойно сосать себе и дымить сколько влезет. На дно пепельницы наливали чуток воды, чтоб окурок верней гас, если сдвинуть подальше.
Старик балдел не столько от курения, сколько от привилегии. При улыбке он выставлял свой зуб так, словно это был бриллиант «Орлов». Палата раскололась завистью. Жора и Мустафа потребовали себе тоже курения в любое время. Чех произнес речь о равенстве. А Каведе возбух, что должен быть порядок, мы все-таки не в курилке живем.
Маша тоже была против: она на ночь проветривает помещение и отвечает за наше хорошее самочувствие. А чего ж тут проветривать, если все равно спать в дыму, а у нас и так часто головные боли (гиподинамия, горизонтальное положение). Но начмед питает к Старику слабость, они любят порассуждать о романтике революции, и приказал вопрос закрыть.
Через две недели Старик, разумеется, заснул с папиросой во рту и прожег дыру в подушке. Он вскинулся и заорал от того, что прижгло щеку, пытался скатиться с койки, поднялся переполох, вбежала разъяренная заспанная Маша, злобно застегивая халат на все пуговицы, ликвидировала очаг загорания и дала Льву Ильичу по морде. Он затрясся и хотел в нее плюнуть, но она перевернула его мордой книзу и добавила звонкого леща по затылку. Мысленно мы ей аплодировали! «Есть взрыв! Третий аппарат – пли!» – вопил Жора. «Вот тебе кишки-то штыком в семнадцатом году не выпустили», – прохрипел из подушки Лев Ильич.
На этом курительный эксперимент кончился. Льва Ильича на неделю оставили без сладкого. Это было жестоко, он извелся и даже плакал, а потом какое-то время вел себя как шелковый. С тех пор прошло уже несколько лет. И по утрам нас будит его кашель.
– Рота, подъем! – Это означает, что Мустафа проснулся не в духе. Опять ему война снилась. Иногда он помнит свои сны, иногда нет, иногда орет ночью благим матом. После удачной же ночи он мурлычет: «Господа офицеры – простите-с: утренняя побудка. Желающие на зарядку – выходи строиться: форма одежды – с обнаженным торцем».
И только Гагарин просыпается не раньше, чем Зара включает радио. Черная коробочка на беленой известкой стене пищит «последний, шестой сигнал» и исполняет Гимн Советского Союза, переходя к последним известиям. Известия извещают, что все сеют, пашут, строят и производят, страшно при этом радуясь. Зара открывает форточку и вносит стопкой эмалированные судна. Судна мечены, она подкладывает каждому свое.
(Когда-то из-за этого возникали скандалы. Смешно, однако у нас обострены брезгливость и чувство собственности. Ходить на чужой горшок неприятно. Мы стремимся максимально обставить свой быт какими-то личными приметами и вещами. Мелочи приобретают огромное значение. Через них мы утверждаем свою индивидуальность. Это знакомо всем прошедшим армию или тюрьму. Для нас личный горшок – как для кого-то личный автомобиль.
Поэтому, когда в палате делали ремонт, Жора сговорил за обеденный компот и две папиросы солдатика из спецстройбата. И тот отлил ему в жестянку коричневой эмали, которой покрашен пол, и дал самую маленькую кисточку; тайком приволок горшок и установил все на обеденный столик. Два часа Жора, держа кисточку в зубах, трудолюбиво рисовал на синей эмали коричневую подводную лодку.
Как всегда в таких случаях, вспыхнула повальная эпидемия. Гагарин зеленой краской, ею покрывали нижнюю треть стен, изобразил себе на своем судне космическую ракету. Всех переплюнул Каведе: на него снизошло вдохновение, и желтоватой «слоновой костью» он создал профиль Дзержинского, добившись сходства. Лицо у него при этом было серьезное и торжественное – это с кистью-то в пасти! Чувства юмора он лишен напрочь: мы хохотали до колик.)
Под бодрую музычку, в свежем дуновении из фортки, мы завершаем утреннюю оправку. У Каведе опять не получается. Зара ставит ему клизму.
– По самые гланды, – удовлетворенно комментирует Чех. – Да задвинь ты ему разок туда паяльник – узнает, как скрывать что-то внутри от советской власти.
– Учись, пока я жив, – обращается Жора, и с раскатистым упругим звуком опрастывается. – Примерно так. Можно лучше.
– Жорка, перестань хулиганить! – притворно ворчит Зара. – А вот оставлю тебя без горшка, будешь у меня терпеть до обеда. Или под себя.
– Это дело нам привычное, – подмигивает Жора. – В подводном положении – гальюн продуть и закрыть.
– Вот и будет тебе… подводное положение.
Мустафа с деланой озабоченностью сообщает:
– Няня, я уже.
А Профессор выступает с заявлением:
– Что у нас сегодня на подтирку? Снова «Красная Звезда»? Никакого уважения к правам пацифиста. Требую «Литературную газету»: я должен отправлять также свои культурные потребности.
– Тьфу… жлобы… – сипит Старик. – Кто-нибудь из вас хоть был знаком с туалетной бумагой?
– А как же. На танцы ее водили, щупали.
– Это в которую туалеты заворачивают?
– А первое место в конкурсе заняла японская туалетная бумага: глотаешь таблетку – и все уже выходит упакованным в целлофан.
– Гагарин, расскажи, как ты в космосе в санче-моданчик валил. Вот где мы впереди планеты всей: ни нянь, ни подтирки, сплошная гигиена.
Что естественно – то не безобразно, что не безобразно – то прекрасно. Стеснение давно забыто. Оправка – одно из наших главных дел, оно же развлечение и удовольствие – или проблема. Неподвижность ведет к атрофии мышц, слабеет гладкая мускулатура кишечника, кровь и лимфа застаиваются: атония кишечника, затруднение проходимости и геморрои с колитами обычны у лежачих. Так что день открывается процедурой ответственной, и если все прошло гладко и удачно – сразу повышается жизненный тонус. Организм приятно ощущает освобождение от лишнего, здоровую легкость.
Нам бы, конечно, кисломолочно-овощную диету, но она уставами не предусмотрена. Не кинозвезды. Зара рвет газету и подтирает нас мятыми обрывками.
– Зарочка, извини уж… понос. Ну плохо я перевариваю этот рассольник. Может, огурцы подгнившие были?
Переходите к водным процедурам. Тазик, губка, – синее армейское одеяло откидывается на спинку кровати, рубашка снимается – в изголовье: влажная прохлада проходится по телу, по складкам. Переворот на живот – и по спине. Хребет и под лопатками – вообще полный кайф. Если б я был миллионером, я бы нанял банщицу, и она терла бы мне спину два часа ежедневно. Увы, движения Зарины экономно отработаны: десять минут на всех… И великое спасибо. По распорядку нас положено мыть раз в десять дней. А могут хоть вообще не мыть. Правда, тогда мы будем им же вонять.
Подушки – к спинкам, сидячее положение, рубашки – на торс, одеяла – на место, полотенце – на веревку.
Чистка зубов. Семь тумбочек, семь стаканов, семь щеток, вода из чайника: поточный метод. Полощешь горло, отхаркиваешься в подставленное ведерко, капля пасты из тюбика – несколько движений щеткой во рту. Полощи; плюй. Следующий.
Сидим, разговариваем. Хорошо. Зара бегло швабрит пол, из окна аромат, атмосфера делается свежей. В хорошем настроении Зара может прикурить сигарету и дать каждому по две затяжки. Такое нарушение как бы не замечается, тем более что сигареты ее собственные, она сама курит – «Опал». Вроде поощрения нам за приличное поведение.
– Ну, мальчики, сдаю вас в полном порядке. Не хулиганьте тут без меня.
– Зарочка, когда ж нам и похулиганить, как не без тебя!
– Ой, разбаловала вас Машка.
– Так и ты побалуй. Мы ж со всей душой.
– Ну, уговорили. Завтра.
Захлопывается форточка, прикрывается дверь: день двинулся, потянулся.
Маша входит ровно в восемь: сияет и пышет.
– Доброе утро! – хором скандируем мы.
– Ах!.. – пугается она и пересчитывает по головам, – опять кто-то сбежал! Ну дезертиры… Бауман!
– Я!
– Матросов!
– Я!
– Юровский!
– Здесь.
– А куд-да вы на фиг денетесь.
Завтрак: овсянка, ломоть белого хлеба с маслом, стакан чая с сахаром. Армейская норма для ран-больных, первый стол. А каков стол, таков и стул. Если персонал не ворует – жратвы достаточно. Витаминов, может, маловато, зато калорий – завались. Съедай мы все положенное, разъелись жирней бы рождественских гусей. Нормы-то рассчитаны в обрез, да на солдата, молодого и здорового, его гоняют в хвост и в гриву. А тут – уполовиненный лежачий организм. Поперли бока шире кровати – пайку могут урезать.
Это трагедия. Аппетит все равно плохой, но нарушение прав болезненно. И жаловаться некому. Мотивируют пользой: сердце будет хуже работать, жидкость застаиваться, склонность к отекам, воспаление легких… Э. Пока жирный сохнет – тощий сдохнет. Жуешь – живешь.
Кушаем мы так. Сценарий первый:
С ложечки. Руки у Маши ловкие, аккуратные… Одно плохо: она одна на семерых, поэтому глотать надо быстро, подчиняясь ее темпу. Завтрак и ужин – три минуты на рыло, обед – пять. Еще голоден, чувство насыщения не успело прийти – а уже губы вытерты и в желудке кирпич. И даже с такой скоростью – первый обжигается, а последнему достается простывшее. Поэтому ревностно блюдется очередь: семь дней по кругу.
Сценарий второй:
В гнезда кроватной рамы втыкается аэрофлотовский столик. К нему привинчены кустарные стойки-зажимы для миски и жестяного чайничка-поильника. Хлеб кладется рядом. Лакай, кусай, соси: хоть полчаса. Мы так поднаторели, что даже борщ убираем до капли, не пачкая щек и подбородка. Но можно поперхнуться, а закашляешь – забрызгаешь постель, за это Маша наказывает.
Закономерности – какая пища дается на самообслуживание, а какую суют прямо в рот – нам уловить не удалось. Может, тут дополнительный умысел: чтоб нам было чем разнообразить ожидание ближайшего будущего – гадать. А может, просто Машина прихоть.
Иногда спрашивают, как мы хотим есть. Мнения обычно разделяются, и вопрос решается голосованием. Старик предпочитает лакать: он помешан на тщательном пережевывании (чем?), хотя чаще других закашливается. А Жора и Мустафа всегда за кормление: лишний раз Маша подсядет под бочок.
После завтрака и в хорошую погоду мы гуляем. А зимой – ближе к обеду, и только полчаса. Зимой нас кутают в ватники и шапки, а в рюкзак стелют сложенное одеяло. Шарфов, как везде в госпиталях и больницах, не полагается, и шеи заматывают нашими вафельными полотенцами с клеймом, как и на всех вещах: «в/ч 55418».
А в дождь или мороз мы читаем. Книга ставится на тот же столик, прислоняясь к стойкам. Страницы перелистываешь карандашом, держа его в зубах. Все книги старые, корешки размяты, и перелистывать легко.
Сегодня после прогулки нам включили телевизор. Чтоб быстрее отвлеклись после ссоры. Ссоримся мы часто. Естественно: замкнутый коллектив, однообразная жизнь, ограниченное пространство. Тут вопросы психологической совместимости играют роль острейшую. А откуда ж у нас такая особая совместимость. Иногда жизнь готов отдать, лишь бы не видеть соседей. А порой – ближе родных.
По телевизору показывали «Сельский час», и Гагарин, конечно, стал разоряться, что загубили показухой целину, а начинание было хорошее! После отрывания четвертой лапки блоха не теряет патриотизм. Больше всего мы любим американские сериалы.
Маша велела нам мириться, не то накажет и оставит без сладкого. Такой угрозой можно добиться чего угодно. Наконец, Старик пробурчал, что был неправ и извиняется… Даже предложил после обеда сыграть в шахматы. А поскольку он у нас чемпион, это следует расценивать как крайнюю степень раскаяния и миролюбия.
И после обеда Маша посадила нас в его кровати друг напротив друга, заложив мне за спину табуретку, и расставила на столике шахматы. Мустафа поспорил с Чехом на сахар к вечернему чаю, что я проиграю до тридцатого хода. Старик отдал мне белые и избрал защиту Каро-Канн. Это медленный гамбит: он явно поощрял меня держаться подольше. Я продержался два часа сорок минут, и получил уважительный мат на тридцать шестом ходу. А мог бы раньше.
Фигуры мы двигаем тоже карандашами. Сгрызенные меняют.
Телек начал «Вести», и мы с дрожью подгоняли часы, хотя Маша со сладким никогда не задерживается.
………………………………………
Мы самовары. Самоваром называется инвалид, у которого по самый корень нет рук и ног. Это, наверное, потому, что получается такая чурка с краном внизу.
Мы здесь уже много лет. Наши родные думают, что мы давно умерли.
Это секретный госпиталь для таких калек. Мы не знаем, где мы находимся. Их довольно много по стране. Они расположены вдали от жилья и дорог, укрыты от людских глаз и совершенно изолированы от внешнего мира. Они не фигурируют ни в каких сводках и отчетах и не упоминаются ни в каких докладах. Люди делают вид, что нас нет. Хотя любому понятно, что мы есть.
Когда-то нас здесь было много. С годами делалось все меньше. Теперь осталась одна наша палата. Иногда мы строим предположения, куда девают остальных. Но говорим об этом редко, вполголоса и с опаской. Трудно сказать, откуда появилось чувство, что разговоры на эту тему запретны и опасны, но мы знаем это совершенно твердо.
Через неделю нас всех ликвидируют.
Глава III
Первой опустела палата № 6.
Их сформировали в 59-м году. Этому предшествовал XX Съезд, разгон антипартийной группы с примкнувшим к ним Шепиловым, Молотова загнали послом в Монголию, и мининдел курировал первый зампред Совмина Микоян.
Двадцать седьмой бакинский комиссар, удачно увильнувший от знаменитого расстрела, продержавшийся на плаву от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, знаменитый умением проходить в дождь без зонта сухим между струй, славный сын армянского советского народа Анастас Иванович Микоян был очень умным, очень хитрым и очень предусмотрительным. Именно при нем иностранные дела пришли в наилучшее состояние – советская экспансия достигла своего апогея: алый знак доблести взвился в сердце Французской и Португальской Экваториальной Африки, подаривший Индонезии 2-ю эскадру Тихоокеанский флот бункеровался в Джакарте, атомные подводные ракетоносцы базировались на Каир, а советские специалисты в неброских серых костюмах закусывали говяжьей тушенкой в Бомбее. Именно тогда восходящий красавец-молдаванин Брежнев со свойственной ему чеканной дикцией сформулировал: «Нам нужен мир! И желательно – весь».
Королёвская команда уже сделала баллистическую ракету под водородную бомбу. Ракета была огромна, сложна и дорога. Выведенные ею на орбиту Белка и Стрелка отпищали свое. Коэффициент удачных пусков на коэффициент реальной точности попадания давал 0,21. Несравненно надежные Б-52 висели вдоль наших границ с термоядерным комплектом на борту. Сменивший на Минобороны Жукова маршал Малиновский неистовствовал. После очередного разноса Королёв запивал пузырек валерьянки бутылкой коньяка и шатался меж щитовых домиков Байконура, сотрясая ночную пустыню воплями: «Космос не терпит импотентов!!». Летучие взводы его любовниц дополнительно бесили сторонника единоначалия и моногамии Малиновского, с военной прямотой желавшего сосредоточения всех сил и средств исключительно на заданном направлении.
Но генералы похаживали, как Наполеон перед брюмером. Уравновесить небезопасные амбиции было нечем: чистка абакумовско-бериевского КГБ выкрошила слоеную зубчатку грозного аппарата.
Хрущев побаивался военных. И правильно делал. Он знал кое-что о довоенном Заговоре маршалов. Армия не одобряла шельмования Сталина и сожалела о снятом Жукове.
Хрущев призвал на дачу Микояна. Они сели в плетеные креслица за стол в тени яблони. Хрущев пил водку и закусывал нежнейшим украинским, в розовых прожилках, салом, шпигованным чесноком. Микоян смаковал коньяк, отделяя мандариновые дольки.
Генералов следовало осадить. Чтоб знали свое место. И были на этом месте заняты и довольны: преданны!
– Не отдал бы муд-дак царь Аляску американцам – проходили бы Канаду танками в пять дней, – сказал Хрущев, промакивая губы тыльной стороной ладони. Микоян понимающе шевельнул смоляными, без седины, усиками.
– Мексиканцы не любят гринго, – продолжил он тему, опуская ясные логические звенья и подходя к предмету с противоположной стороны. Как бы помогая замкнуть врага в клещи.
– А ты кто? Впрочем, ты армяшка… А я, хохол, тоже гринго. Эх, двинули бы им в сорок пятом! Кто нам тогда в Европе мог противостоять? Разве была у кого-нибудь еще такая армия – огромная, закаленная, с таким опытом? И ведь было, было же такое негласное указание – прощупать слегка союзничков на вшивость!.. под марку выравнивания демаркационной линии. Разок-другой сунули им слегка… разве это немцы! ты что… не вояки.
– Говорили ж тогда военные. И какой момент был…
– В две недели докатывались до океана! И никакого Франко!
– Вся Европа была бы сейчас наша. Эх, если бы хозяин еще слушал иногда кого-нибудь – цены б ему не было. Громя огнем, сверкая блеском стали… – напел Хрущев. – В огонь и в воду!
– Бомба, – деликатно напомнил Микоян.
– Хиросима, – согласился Хрущев. – Бомбардировщик на двенадцати километрах дошел бы до Москвы спокойно. М-да. Засели за океаном! суки зажравшиеся.
Подавальщик в крахмальной куртке, беззвучно вдавливая штиблеты в газон, принес дымящуюся гречневую кашу со шкварками и сменил степлившийся графинчик на запотевший.
– Фотозонды запускают над нами с Турции, – наябедничал Хрущев, жуя гриб.
– Штык-то русский им не выдержать, – с артистичной искренностью произнес Микоян и, подумав, под кашу, налил себе тоже полрюмки чистой.
– А ты дотянись им, штыком. – Хрущев зло шлепнул комара на лысине и хлопнул две подряд. – А вискарь дерьмо рядом с водкой, носками пахнет.
– А не пригласить ли нам третьего, для компании, так сказать, Никита?
– Два ума – хорошо, а три – уже пьянка. Ты кого имеешь в виду?
– А кого-нибудь помоложе, пообразованней нас, стариков. Хоть того же Шурика Шелепина.
– Сноровистый пацан… ну-ну. Он тебе, значит, уже удочки закидывал? Лих.
«Железный Шурик», сорокачетырехлетний Шелепин ломился наверх. Студентом проходя с демонстрацией через Красную площадь, он сказал друзьям, кивая в сторону вождей на Мавзолее: «Я еще буду там стоять». В 38-м, секретарь Краснопресненского РК комсомола, он вручал билет Зое Космодемьянской. В черном ледяном декабре 41-го, уже глава МГК РКСМ, он лично организовал похороны героини и создание легенды. В 58-м был поставлен вместо убранного генерала Серова руководить КГБ.
Всегда готовый ко всему Шелепин захватил с собой начальника ПГУ – пусть посидит за дверью, вдруг понадобится конкретность. Начальник ПГУ захватил с собой начальника аналитического отдела. Начальник аналитического отдела захватил с собой портфель с картами.
Карты были раскрыты, карты были сданы.
К закату Хрущев пришел в приятное возбуждение. Глазки его искрились. Энергичный ум, быстрый и цепкий, взвешивал детали.
– Соображаете, значит, что-то… молодежь! – Поощрительно улыбаясь, заплеснул водочной волной Аргентину, утвердил локоть на Атлантике. – А мулаты все эти – несерьезный народ, шебутной, им бы только бабу за жопу и плясать под гитару… налей им, Шурику налей, заслужили. Будь здоров, генерал!
Хлопнул по Панаме:
– Завтра в десять – ко мне. Свободны. Анастас – Устинов тоже пусть будет. Вояк не надо. Им потом скажут.
Работать вечером он не любил. По старой крестьянской привычке, вставал рано. Кто рано встает, тому Бог подает. Память о ночной жизни под хозяином была ему несносна.
Решения принимались по утрам – трезво и резко. Через сутки он подписал директиву. Деньги рачительно взял из бюджета МО. В четверг на еженедельном рабочем заседании Политбюро утвердило создание Кубинского отдела, засекретив протокол высшей категорией в шесть ромбов.
В Институте военных переводчиков объявили дополнительный набор на испанское отделение. Одновременно создали группы переводчиков на испанской филологии Московского и Ленинградского университетов. Форсированную, с практической направленностью, программу склепал старый интербригадовец, зав романской кафедрой ЛГУ одноглазый профессор Плавскин.
Со скрежетом ГРУ передало КГБ законсервированные досье на семьи испанских эмигрантов в СССР. Шелепин наматывал вожжи.
И стал, наконец, вспомянут, срочно обменян и вытащен из мексиканской тюрьмы, награжден Героем Советского Союза и приписан консультантом при «пятерке» ПГУ непроизносимо-легендарный и как бы не существующий полковник Меркадор.
Если бы в американской контрразведке работали столь же знающие свое дело ребята, как восхитившие Хрущева невадские кукурузоводы, то они бы (и контрразведчики, и кукурузоводы) покрылись холодным потом. Но они сидели под своими кондиционерами в своем Вашингтоне, вальяжно спустив узлы галстуков, и самодовольно расчерчивали графики полетов высотных разведчиков У-2 над СССР, за госзаказ на каковые самолеты «Локхид» и совал баснословные взятки Пентагону. Только наивные отпрыски технократии могли полагать, будто фотоаппаратура с высокой разрешающей способностью способна фиксировать боевые приготовления бульдогов под ковром.
Куба их не колыхала. Бордель с бухлом и казином: банановый остров расслабухи. Если Кастро хочет сесть на место Батисты – это их проблемы. Режиму полезно освежаться. А у латиносов, склонных понимать демократию исключительно как отмену платы в борделе с дармовой выпивкой, перевороты – единственная форма освежения заворовавшегося госаппарата. Ну, пусть постреляют друг в друга, кому с того вред: житье у них скучное, развлечений мало – работать они не любят, читать не умеют. Новая метла хоть поначалу выметает немного мусора.
Тем более что Батиста – жадный проходимец, а Кастро – образованный молодой человек из хорошей и уважаемой семьи. Меньше нищих, возможно, будет приставать к туристам, меньше триппера будет у проституток.
Так докладывали информаторы, и докладывали они сущую правду. Двадцатишестилетний Фидель был полон самых благих намерений, чистых и безвредных.
Таким образом, очередной переворот в очередной банановой республике завершился всенародными плясками самбы, приветствовавшими нового диктатора, молодого и красивого, образованного кабальеро и огненного оратора.
– Вива команданте Фидель! Вива команданте Камило! Вива команданте Че!
Что вива, то вива.
Вот тут-то, хрен им всем в глотку чтоб голова не болталась, со вторым из возобновленных рейсов «Канадиан Аирз», с паспортом аргентинского бизнесмена Бенхамина Сормьенте, прибыл в Гавану лично генерал ГБ под крышей секретаря МИДа СССР Верижников.
У него были серьезные предложения о крупных поставках дешевого мяса и закупках сахара. Из намеков можно было понять, что в прейскуранте найдутся и более полезные для режима продукты различного калибра и скорострельности.
Бизнесмен заботился о конфиденциальности. Новое правительство еще не было признано Аргентиной. Он поселился в пустом «Хилтоне» и грамотно вышел на встречу с не самым заметным лицом молодого государства – братом Фиделя Кастро Раулем. Братец ведал порядком и внутренней безопасностью. Информация об его ведомстве была собрана в Москве наиболее полно. Не один наш человек в Гаване трудился на благо славной революции; естественно.
Юный министр отвел для встречи полчаса и закончил ее через двое суток. Сеанс коррекции политико-экономических взглядов прошел успешно. Маленькие глазки министра разинулись шире пределов, назначенных природой. Безбрежность перспектив не вмещалась в окоем. Широкие карманы маскомбинезона явственно оттопырились.
– Вы понимаете, как занят сейчас команданте Фидель, – значительно сказал он. – Он работает по двадцать часов в сутки. Я постараюсь, чтобы для нас он нашел время.
Спесивая блоха, хмыкнул про себя Верижников. Вы слышите: нет времени протянуть руку за безразмерной халявой… еще будете у меня в приемной в очереди сидеть.
Верижников поехал отсыпаться. Рауль рванул к родственничку.
После сьесты черный батистовского гаража крайслер вкатился под охраной виллиса с автоматчиками в раздвижные ворота правительственной резиденции. Несерьезно-гордые барбудос в пропотевших зеленых куртках эскортировали визитеров через мозаичный двор и паркетные коридоры в необозримый кабинет и затворили белозолоченые лепные двери.
Фидель работал за столом. С затяжкой он воздвиг свои сто девяносто два сантиметра и протянул загорелую лапу. Поставленный взгляд Верижникова выражал величие миссии.
Этим взглядом он обвел помещение, пока хозяин лично, у народных вождей слуг нет, смешивал хайболлы и раскрыл ящик огромных черных сигар своей любимой марки «Партагас Эминентес».
– Мои люди все проверили, – гарантировал Рауль отсутствие аппаратуры прослушивания, которую американская разведка могла всадить в кабинет еще Батисте.
«На природу бы, на морской бережок… да не тот уровень, статус не позволяет».
– Простите гостю, – извинился Верижников. Кивнул на телефоны, светильники.
Фидель шевельнул бородой, заорал. Вошедшие барбудос деловито вырвали провода, унесли люстру. Фидель нахмурился. Сказал, улыбнувшись:
– Нам не нужна роскошь.
Он начал раздражаться, глядя на обнюхивающего взглядом картины и выключатели Верижникова, и только мысль, что подобная дурацкая бесцеремонность чревата чем-то необычайно сверхважным, удерживала его, чтоб не вышибить гостя за дверь пинком рифленой армейской бутсы сорок шестого размера.
Строго говоря, Рауль его уже окучил: информировал. Но Фидель был прирожденным лидером: не верил никому, и во всем должен был убедиться лично.
Верижников начал с оружия. Революциям всегда нужно оружие. Поставки в любых количествах и на самых льготных условиях. Беспроцентная рассрочка, в обмен на сахар-сырец.
– Какое оружие?
– Из легкого стрелкового – чехословацкие автоматы «26» под маузеровский патрон и чехословацкие пистолеты под тот же патрон.
Рауль кивнул. На боку его болтался короткоствольный «боло»-маузер, предпочитаемый всему другому.
– Я не люблю пистолеты, – сказал Фидель. – Их часто заедает. Это городское оружие для чистых квартир. Народным бойцам нужны простые, неприхотливые машины.
– Чехословацкие оружейные заводы «Шкода» – лучшие в Европе. Во время II Мировой войны они производили всемирно знаменитые немецкие пистолеты «парабеллум» и автоматы «шмайссер». Сейчас они делают и револьверы, точно как у Кольта, но лучше и дешевле.
– Какого калибра?
– 38 спешл и 357 магнум.
Этот, начальный момент переговоров, зацепка, тщательно проигрывался аналитиками. На выбор могло быть предложено аргентинское, бразильское, испанское оружие – дешевое, но ненадежное (плюс приходилось тратиться на перекупку-продажу). Советским оружием светиться не следовало.
«Пацаны-революционеры – их главное: купить красивыми трещотками, на это они клюют сразу, как дети на мороженое. Это ж латиносы, им дай только попалить вволю».
– Образцы доставят самолетом в любой день.
– Маузеры у них тоже есть, – сказал Рауль. – Точно такие.
– А патроны?
– В любых количествах. Нет проблем.
– Откуда? Чьи?
– Чехословакия, Польша, Китай, СССР. Под этот патрон сделан советский автомат ППШ и знаменитый пистолет ТТ, стоящий на вооружении многих стран. Максимальная пробивная сила.
Регион, лагерь был обозначен. Без лишнего акцентирования.
Спокойно, со вкусом профессионалов они побеседовали о пулеметах, о легких минометах, столь незаменимых в горной войне; о вертолетах для патрулирования и десанта, о легкой бронетехнике и необходимом ей горючем.
Верижников плавно развивал взаимное вежливое понимание:
– Дешевле обойдется сырая нефть с переработкой прямо на Кубе. Строительство нефтеперерабатывающего завода даст новые рабочие места, поднимет благосостояние населения. А собственная промышленность позволит не зависеть от других государств.
Разговор естественно перетек в следующую фазу: благо народа.
– Становление новой власти всегда связано с трудностями. Уничтожение коррупции вызывает саботаж старых кадров, а новые еще не обрели квалификацию и опыт. Период экономического спада тут неизбежен – через это прошли все государства. А люди хотят есть каждый день. Сытый желудок – он лучше всего убеждает простых людей в преимуществе строя.
– Мы – народная власть, – сказал Фидель. – Все, что делается – для народа. Он это понимает и поддерживает нас.
– Безусловно. И реальные плоды вашей правоты могут быть очевидны уже завтра. Важно быстрее пройти первый этап, наладить хозяйство. Хлеб и мясо могут быть уже сейчас. В количествах, достаточных для нормального питания всех.
– Аргентинские? – выдерживая видимость игры, спросил Фидель.
– Экономически выгоднее советский хлеб и китайское мясо.
Фидель кивнул, подумал. Сложил морщину на лбу:
– Это потребует хранения… переработки. Надо произвести расчеты.







