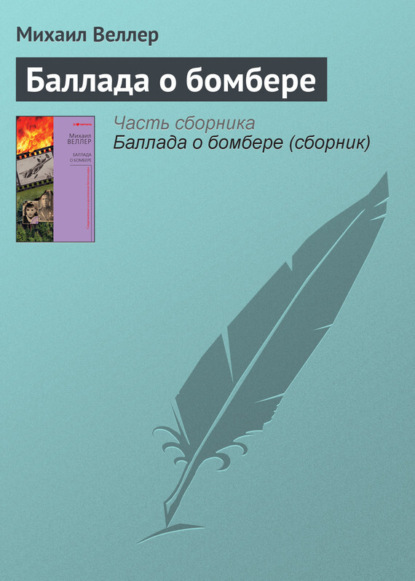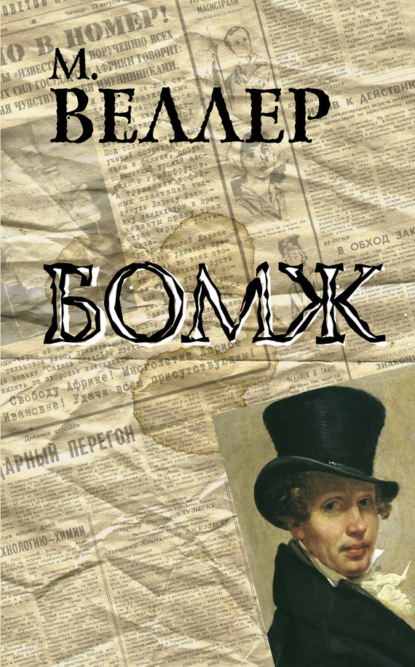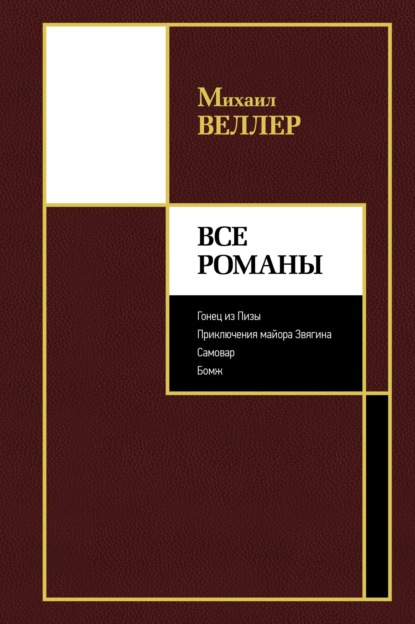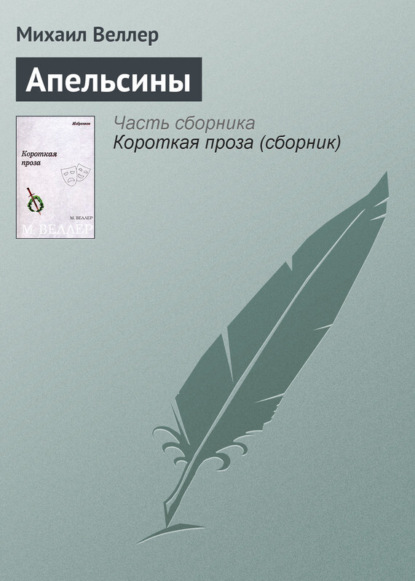- Рейтинг Литрес:4.3
- Рейтинг Livelib:3.3
Полная версия:
Михаил Иосифович Веллер Остров для белых
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Михаил Веллер
Остров для белых
© М. Веллер, 202
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Книга I
Глава 1. Вначале
МаякКогда-то я мечтал прожить зиму на маяке. Вернее даже, с осени до весны. В октябре, когда листва светится всеми цветами пожара, высадиться с лодки на маленьком и необитаемом острове. Остров порос лесом, а у обрывистого берега высится маяк. Рядом – домик, и сарай для дров и припасов. На верхнюю площадку маяка ведет узкая винтовая лестница. По ней нужно подниматься дважды в день: вечером зажигать прожекторный фонарь, а утром гасить.
В доме есть радио, а сумку книг я привезу с собой. В сером утреннем свете надо наколоть дров и растопить печь. Потом вскипятить кофейник, почитать, и сесть за стол у светлеющего окошка, предвкушая писать – черными чернилами на белом листе; с того места, где вчера остановился. Закурить, переждать легкое головокружение от первой утренней затяжки и прислушаться к расходящемуся внутри холодку: уловить камертон, когда ощущение полноты жизни и единства со всем миром оформляется в мысли, и мысли эти пробуют точные слова, чтобы выразить себя.
Потом можно бродить по снегу среди деревьев, варить суп, в сумерки заводить в сарае бензиновый движок для электричества, читать, и долго сидеть со стаканом виски в руке, слышать из приемника далекие голоса материков, их большой жизни и суеты.
И никого не видеть. Интернета здесь не бывало. Сотовая связь не берется. Полный покой. Сегодня, завтра и через месяц. Мир и покой. Отдых и сосредоточенность на собственных мыслях, чувствах, воспоминаниях. Уж очень мне надоели люди, большие города, суета и бесконечное общение живьем и в сетях, выматывающее и ненужное.
Вот как красиво и, я бы сказал, художественно, литературно и живописно я воображал свою мечту. Да. А потом дни станут длиннее, солнце выше поднимется над свинцовым морским горизонтом, тяжелая хмарь небес промоется лазурью, стает снег в лесочке, лопнут почки на черных ветвях, и к исходу весны прибежит за мной катер по веселой воде. И я спущусь с берега, просветленный и помудревший, а в сумке будет лежать мой великий и гениальный роман, толстая пачка листов.
…Бойся своей мечты, бойся своей молитвы – она сбудется, но не так, как ты ожидал.
Я живу в лесной хижине. Катер никогда не придет. И не дай бог. Я надеюсь, что доживу свои дни в спасительном одиночестве. Я даже не скажу, где моя избушка, ни штата не скажу, ни страны. До реки четверть мили, и каждый раз я стараюсь идти к ней другим путем и выходить в новом месте, чтобы не протоптать тропинку.
И роман этот написал не я. Жизнь написала. Разные люди с разными историями. Я долго, всю жизнь собирал материал. Разные обрывки, записки, свидетельства. Чьи-то фантазии, летопись чужих грехов.
Я льщу себе сравнением с Робинзоном Крузо, спасшим скудные остатки кораблекрушения, чтобы воссоздать из них фрагмент цивилизации на одном отдельно взятом и необитаемом островке.
ДорогаВечером у костра ужинали бродяги и травили истории перед сном:
– И каждый раз он рассказывал мне свою историю по-другому. Хоть чуть-чуть, да по-другому. Один раз он пробирался на север по лесам через Айдахо, в другой – в Миннесоте дошел до Ред-ривер и сплавился на найденной лодке до Виннипега. То он снял сумку с письмами с мертвого почтальона на крыльце, то забрал неизвестно зачем мешок писем из пустой почты. Бумажных писем, понял. Сразу и не врубишься. Я еще спрашиваю: «Кто это, интересно, на бумаге столько писал и кому отправлял, вместо эсэмэсок-то или чтоб позвонить?» Почта-то раньше ходить перестала, чем связь вырубилась? А он задумался так и отвечает, что у него в надежном месте рюкзак книг припрятан, почти совсем целых, он их в сгоревшем магазине набрал, только тащить тяжело, но когда-нибудь он за ними обязательно вернется. А у самого одеяла нет. Вот такой у него глюк был.
Компания перекинулась репликами в том духе, что ничего странного, прибабахнутых сейчас много.
– Мы с одним таким, он раньше объявления или типа того печатал, на ферме брошенной как-то ночевать собрались. Окна выбиты, еды вообще ни крошки. Но старый такой, битый, «форд» F-сто пятидесятый под навесом остался. На ходу, и бензина полбака. Они все на другой машине уехали, наверно. В общем, миль на сто точно хватит, а там по пути посмотрим. Я с собой одеяла кидаю и из одежды оставшейся кое-что. А этот – ну дурак! – с чердака охапки газет тащит. Я говорю: «Ты что, вообще дурак?» А он газеты свои обнимает и лепечет хрень всякую: документы эпохи, память, долг перед историей. Я, говорит, создам это… ну, толстая книга… эпопею. Короче, днем потом остановились, и я немного этих газет взял костерок разложить, вскипятить воды. И эта сука! – в машину прыг! – и по газам! Уж не знаю, докуда он доехал. Убили, я думаю. Встречу – сам убью.
Слово «убью» вызывает у вольных людей задумчивость. Да хоть кто об этом мечтает: каждому есть кого убить. Задумались о своем. С оружием здесь дружили. Костер догорал, и черно-красные тени стягивали теснее купол света. Блондин с худым и резким лицом сделал знак. В костер подбросили. Пламя облизнуло ветки белыми языками и поднялось. Все завозились, устраиваясь поудобнее.
– Писатель, – не то велел, не то оповестил блондин, скучающий убийца.
Произошло движение взглядов, и в их фокусе обнаружился нахохлившийся человечек в музейном шерстяном реглане неопределимого цвета. Он опустил воротник, скрестил ноги по-монгольски и выпрямил спину. Если уж мы заговорили о лицах, то его одутловатое испитое личико имело жалкое и одновременно гордое выражение. Выражало оно равную готовность к овации и побоям. Народ приготовился слушать.
Шут– Его звали Мелвин Баррет. И он хотел быть писателем. Он окончил Мастерскую писателей в Университете Айовы. Но там ничем не блистал. Кроме, разве что, терпения и упрямства.
– Он был здоровый?
– Нет. Но по морде дать мог!
– А что он написал?
– Он мечтал написать великий роман. Роман эпохи. Они там все очень гордились, что на этих курсах учились будущие гении: Пенн Уоррен, Флэннери О’Коннор и другие всякие.
Возник краткий миг неловкости: они не знали, кого это он назвал, а он вспомнил, что знал, что они не знали, с чего бы.
– Сначала он преподавал в школе английский язык. Потом плюнул и пересел на трак. Гонял через все штаты, наживал геморрой на сиденье и выплачивал кредит. Потом нашел напарника работать две недели через две, примерно так, и в свободные две недели писал.
Никто не хотел брать писанину Мелвина, и в конце концов от стал строчить заметки для местной газетенки. Потом там кто-то умер, не то от бессмыслицы, не то от полового истощения, и его взяли в штат редакции. И только его начало тошнить от этой газетной фигни и объявлений о краже подержанных презервативов, как газетка лопнула. Тогда он сел на пособие, и это ему понравилось.
Рассказчик сделал жест, ему протянули косячок, и после двух затяжек он легко смастерил Мелвину Баррету отличную биографию. Женил его на красавице и дочери миллиардера, купил яхту и «ламборджини», и тут посадил миллиардера за шпионаж в пользу Китая, красавица-жена сбежала с чернокожим рэпером, кредиторы миллиардера наняли мексиканцев-киллеров и они стали охотиться за Мелвином, он скрывался в Маленькой Гаване в Майами, оттуда бежал в Кентукки и затерялся среди злых белых бедняков, ну, а потом грянула Катастрофа, и он, уже поседевший и полысевший, беззубый, в морщинах, но еще резкий и решительный, начал спасаться и влился в потоки Исхода.
Тут он решил, а вернее, понял, что наконец-то все опишет, и это будет его великий роман. Брошенные дома, разграбленные магазины и бензоколонки, и перестрелку на складах, и забитые ржавеющими машинами шоссе, и как резали людей за канистру бензина.
Эх, ребята, раньше про это сняли бы кино… да какое кино! Эпохальный блокбастер. Да уже некому. И не на чем. Но вы сами все видели. И про Мелвина Баррета вам все будет понятно, как будто собственными глазами видели.
Все ведь мы знаем, как шарят в пустых квартирах, не завалялась ли за холодильником упаковка сыра, или хозяйская рубашка под кроватью, или зажигалка в щели дивана. Как пинаешь крысу, жрущую труп, а она жирная, ленивая и наглая. И если оружейный магазин вынесен до последнего патрона, последней кобуры и отвертки – обшарь все кусты кругом, загляни за заборы – где-нибудь обязательно валяется АР-15 с почти полным магазином.
Мелвин прибился к семейному отряду. Караван из десятка вооруженных мужиков с детьми и женами. Бензин они отбивали силой, их боялись – семейные ведь всегда дерутся насмерть.
– Все равно перебьют.
– Их и перебили в конце концов. Девчонок взяли с собой трахать и обменивать на нужное, а прочих бросили на дороге с пустыми баками, без воды и еды. Мелвин вовремя отстал и свалил в туман, и дальше он пробирался уже один.
И вот однажды заходит он обшарить один дом. И видит там древнюю старушку. В качалке у окна сидит. Наполовину уже крысами объеденная. Вонь, конечно, мухи. В комнатах – ничего полезного. Уже заглядывали, прочистили насквозь. Вот только у двери – старинный такой кожаный сундучок. В двух ремнях с замками. Коричневый, с окованными углами и тиснением. Бесполезный предмет и бессмысленный. Но симпатичный. Открывает – а там несколько книжек. Бумажных. Причем старинных. В твердых переплетах, с картинками.
– В общем, не повезло…
– А какие книжки-то?
– Сверху лежала, конечно, старинная Библия. Древняя, еще рукописная. С гравюрами Доре. А под ней был Атлас морских карт, причем с пометками мест, где хранились клады знаменитых пиратов: Моргана, Флинта и Черной Бороды. Еще там была биография Джорджа Вашингтона и размышления одного французского маркиза про американскую демократию. И там же – сказки «Тысяча и одна ночь» и стихи древнеримского императора-философа про искусство любви, секса и соблазнения.
– Сука, император, наверное, хорошо пожил! Вот уж натрахался!
– Погоди-ка… Но ведь с картой кладов надо отправляться за кладами, раз уж так повезло. Если это правда, конечно. А, писатель?
– Как дети. Ну, и как ты туда отправишься? И откуда ты знаешь, кто контролирует территорию и кого ты встретишь по дороге? Да тебя пришибут сто раз по дороге. Соберешь дивизию, с топливом, с оружием? Объявишь там войну? Может, ты президент? И как ты без навигации, без GPS, найдешь указанное место? А хоть ты совершил все подвиги и вырыл эту кучу золота – ну, и что ты с ней будешь делать? Кто тебе отдаст за это золото еду, или бензин, или патроны? Да ты за него даже жареную крысу не купишь! Кладоискатель…
Всему свое время, ребята. Время закапывать клады, время выкапывать клады, и время плевать на клады.
Так что на клады он плюнул. А думал он следующее:
…Я мог бы подробно рассказать вам, что видел на длинной дороге. Как в книжном магазине в Ларами рылся в грудах нот и тетрадей на полу, и все-таки нашел бумажную карту США! Электроника-то вся сдохла. Как нашел на шестом этаже брошенной парковки синий «мицубиси-мираж» и старался его беречь – другой такой экономичной машины не найти, а ремонтироваться негде.
В багажнике перевернутого на обочине «ниссана» я обнаружил синюю изоленту и, вспомнив кино про Вторую мировую войну, залепил фары синим, оставив только узкие щели: чтоб ночью было незаметно. На рассвете я искал укрытие и прятался в развалинах, или кустах, или за холмом, только бы с дороги не видно. Одному стремно даже менять рубашки или консервы на бензин – зачем с тобой, одиночкой, меняться, если можно убить и взять все так, были бы патроны.
Жизнь стала заточена на поддержание себя. Безопасность, еда, тепло, движение. А кругом – калейдоскоп: разграбленные городки, сожженные бензоколонки, мертвые пустые магазины, и везде хлопают под ветром болтающиеся на одной петле двери. Что это за такой закон физики, что одна петля обязательно сорвана, а другая болтается – неведомо. От описания трупов и судов Линча я вас избавлю… Да какие суды Линча – пристреливают ведь походя, у кого патронов много, а из экономии – вздергивают на всем, что высоко торчит. Одного повесили на вывеске «швейцарские часы», и гоготали, что точно вовремя он успеет в рай.
Очень быстро стал трескаться и ломаться асфальт, трава полезла в щели шоссе. Привыкли к тому, что вечерняя темнота непроницаема и опасна, никаких фонарей и горящих окон, а от редких костров держись на всякий случай подальше. Привыкли к запаху пространства, из которого ушла жизнь.
Подобных картин вы столько видели и подобных рассказов столько слышали, что на фиг они никому не интересны, я вам скажу.
ПолиткорректностьВсе унитазы, да и полы в туалетах, углы квартир и лестницы в подъездах были загажены так, что еще не вовсе утерявший брезгливость человек выбирал для отправления ответственной и жизненно необходимой потребности место подальше и почище, чтоб свежий ветерок сверху и желательно газон снизу. Таким образом, в узкой полоске тени под пальмой сидел в позе гиббона небритый мужчина в спущенных штанах. И в то время, как кишечник его облегчался, с противоположного конца организма в орган, духовно противопоставляемый прямой кишке, то есть в мозг и через него в душу (вместилище которой точно не определено, но безусловно это самое возвышенное, что есть в организме, в противоположность отделяемым каловым массам) поступала следующая информация. В руке он держал клочок газеты, который читал, но интеллектуальные усилия осознать смысл читаемого отвлекались потугами физиологического процесса:
«Политкорректность – это компенсаторная система запретов разрушаемого социума, объективно пытающегося для самосохранения структурировать систему хоть каких-то императивов и табу взамен отмененных. Когда запреты сняты и господствует вседозволенность – исчезают системообразующие надличностные ценности в форме веры, идеи и идеологии – системообразующей становится негативная аутичная идея: запрещать внутри себя что угодно невинное и незначимое. Якобы это стало вдруг противоречить взглядам и интересам общества. Как татуировка у дикарей, как строжайшие предписания и запреты поведения в тюрьме – малейшее слово, жест, выражение, поступок вдруг приобретают гипертрофированное, вредоносное, запретное значение и делает тебя грешником, виноватым, изгоем. Новая жестокая система запретов – бессмысленна, и оттого еще более жестока и категорична: не смей нарушать неких измышленных положений».
Несколько напряженное лицо мужчины расслабилось, взгляд смягчился, он поднес газетный обрывок к месту окончания процесса и использовал по назначению.
Кстати о поисках Мелвином Барретом материалов эпохи.
МолитваЧем дольше ты живешь в одиночестве, тем яснее испытываешь два чувства – счастье и вину. Счастье – потому что жизнь была так огромна, и в ней было столько разного, столько радостей и тревог, столько мечтаний сбывшихся и не сбывшихся, благодарности и злости, преодолений и блаженства, и такие бесчисленные россыпи драгоценнейших живых мелочей, в сиянии их алмазных искр твоя прошедшая жизнь неисчерпаемо прекрасна! А вина – потому что так много не дал, не сделал тем, кого любил: ты несся вперед, тебя несли планы и страсти, жажда жизни и главных дел – и ты не успевал, не умел, не удостаивал любить по-настоящему: войти в любимого, близкого человека, почувствовать жизнь его нервами, его душой, его чувствами и чаяниями, и дать ему то, что ему так нужно было: дать больше внимания, и тепла, и согласия, и благодарности, и поддержки в тревогах. Ты любил, жизнь непоправима – поэтому ты виноват.
Вот о чем я думаю.
Для монастыря не нужны каменные стены – хватит и тех руин, отзвуков хорала, что в твоей душе. Не жалейте флагов! Не нужна братия, не нужен настоятель, и свечи не нужны, и даже крест на крыше или над алтарем. Память возносит твой монастырь, она возжигает свечи, и даже могила совести – сама себе молитва, и любая жизнь, что уже минула – сама себе покаяние.
Если бы умел, я вылепил бюст Платона. И с ним беседовал. Правда, я и так с ним беседую. Рафаэлевская фреска меня всегда раздражала – базарная суета какая-то, а не элита античной философии. Иногда он заходит ко мне и садится на ящик из-под кока-колы, иногда я к нему в Академию, и ученики замолкают, отодвигаются в тень колоннады и не мешают. Но это детали, это не важно…
Просто я хотел сказать, что живу в главном мире, первичном, определяющем – мире идей. Со стороны это может показаться жалким и диким, наверное, эдакой симуляцией безумия. Но на самом деле это прекрасно. Главное – мой мир неуязвим.
Утром я живу с идеей кофе и яичницы. Идея завтрака завершается сигаретой. Потом я одеваюсь… могу надеть свежую сорочку от Франтини и джинсы «бриони». Сажусь в кресло-качалку, пахнущую тисненой кожей… Ведь нас интересует не то, что вещи жутко качественные, а то, что они выражают идею качества, то есть успеха и удовольствия. Вот я имею дело напрямую с идеей комфорта и счастья, а не с суетной его атрибутикой.
Только надо набить чем-то брюхо, и чтоб в обители моей было тепло, и чтоб ничего не болело. Все остальное, что нужно для счастья – во мне самом. И во мне самом – боль и стыд прожитых лет, грехи и несбывшиеся мечты: благодарность и покаяние, безмерная, невыразимая благодарность за все в жизни (ну, почти все) – и такое же безмерное, безграничное, неизбывное покаяние.
Покаяние – это любовь, стонущая под кнутом совести. Вот такую фразу я придумал, чтобы вставить в свой роман.
Здесь только такая подлая штука: грешишь ты по жизни, на самом деле – а каешься субъективно, в душе, в собственном сознании, и никому от этого ни жарко ни холодно. Эгоистичный самообман. Сначала пользуешься людьми и калечишь им жизни, а потом, когда наслаждаться сладостью греха уже не в силах – наслаждаешься сладостью раскаяния. То есть ловишь кайф и от скотского эгоизма потребителя – и от его противоположности: эх, был я силен и жесток – а стал слаб, зато праведен, и всегда мне хорошо. Путь от молодого гогота до старческого умиления. Праведность – это разновидность гедонизма, скажу я вам. Духовный мазохизм как источник положительных эмоций.
Когда ты не можешь любить то, что есть, потому что уже ничего нет, тебе остается только любить то, что было. Мечты обращаются назад, и планирование будущего сменяется перебором возможностей прошлого. (Прогностическая информационная модель приобретает ретроспективный характер, как написал бы я в то время, когда писал статьи по социальной психологии. Пока ее не запретили.)
И в тебе вспыхивает любовь к родителям, которых в юности ты не понимал, да в общем просто не до них было, и уделял им так мало внимания. Как хорошо ты понимаешь их теперь, и как коротка была их жизнь, и сколько они могли сделать, сложись обстоятельства иначе, и ты не отдал им того, что мог; а теперь уже никогда.
И вдруг до тебя доходит, что твоя первая школьная любовь была самой красивой девочкой в вашем городе, и вы с ней были самой красивой парой в школе, и вам завидовали. А ты ей так никогда и не сказал всего, что хотел, и собирался, и должен был. Жива ли она еще в этих страшных событиях?.. Все собирался хоть позвонить.
А своего лучшего школьного друга ты видел в последний раз в двадцать три года. Он получал гроши в каком-то офисе. А был высоким, стройным, крепким, красивым, он всем нравился, его уважали даже бандиты из «пяти блоков». Он умел страшновато улыбаться и осадить любого. В школе были уверены, что он сделает карьеру. А из него ничего не вышло.
Я каюсь, что мало им дал, что мало ценил и легко разошелся, что значил для них больше, чем они для меня… все встречные в моей жизни – которые и были моей жизнью, потому что жизнь – это тепло, которое возникает только между людьми, и сейчас у меня осталась только память о тепле – и эту память я пытаюсь оставить – кому?..
Любовь, звучание которой растворилось во времени, и сохранились только миги, отдельные картины, как старые рекламные кадры фильма, потрясшего когда-то сердца.
Мой старик, похожий на седого гангстера или морехода, прошедший две войны, разоренный двумя кризисами, не согнутый ничем, от которого я не слышал никогда ни слова похвалы и который хвастал мною перед друзьями; я был юн, мне было некогда, меня перло по жизни, я был черств с ним, и ему хватало мудрости не упрекать меня и терпеть боль; он еще живет во мне – любимый, в покаянной моей памяти.
Мои девочки, красивые, нежные мои девочки, их временем правит безжалостная завистливая ведьма, обращающая юных прелестниц в отвратительные коряги, и только в памяти они живут в своем истинном обличье: проси у них прощения, вставай на колени, клади к их ногам все трофеи беспутной жизни своей; очнись и оцени дареные тебе сокровища из дали прожитых лет, оглянись на оставленные клады в конце долгого путешествия.
И твои враги, твои конкуренты и завистники – дороги тебе, и память о них дорога, и дорога к ним ненависть – ибо это тоже твоя жизнь, и она была хороша.
Все сделанное останется с тобой – все несделанное будет томить до последнего часа, такова доля людская.
Как я стал американцемСегодня, если скажешь, что ты американец, могут за это убить. И уж точно большинство возненавидит. Так что даже забываешь, что это значило когда-то, раньше, давно.
Сегодня надо говорить, что ты – социалист. Или космополит. Или черный. Или мусульманин. Или трансгендер. Или чистильщик. Или активист – все равно чего, можно обычно не уточнять.
Страшная это вещь – лишение памяти. Подмена твоей памяти вымышленной биографией, чужими мыслями. Гады долбят тебе темечко своей пропагандой до тех пор, пока ты не начнешь видеть себя и свою жизнь их глазами. И тогда ты веришь им, а не себе. Они подменяют тебя в твоих собственных глазах. Вот за что я хочу убивать их.
Старое время. Средний класс. Люди читали книги.
Сказки Дядюшки Римуса. Как братец Кролик перехитрил Братца Лиса. Братец Медведь и Сестрица Лягушка. Обезьяна, которая ни разу не почесалась.
Том Сойер и Гек Финн. Ну и шайка у этого Томаса Сойера – одна рвань!
Джек Лондон. Вот поживешь с мое в этой проклятой стране, сынок, тогда поймешь, что Рождество бывает только раз в году. Он привык выносить такие удары за полдоллара разовых или три доллара в неделю – жестокая школа, но она пошла ему на пользу.
Хемингуэй, великий миф, мужчина. Жизнь ломает каждого, но одни потом только крепче на изломе, а другие уже никуда не годятся.
Чарли Чаплин, Эрл Флинн, Берт Ланкастер, Юл Бриннер.
Отцы-основатели. Покорение Дикого Запада.
Свобода и Конституция: Мы, народ Соединенных Штатов!
Самолет. Атомная Бомба. Аполлон-11, Луна.
Мы были – самые отважные, трудолюбивые и справедливые.
Справедливость – это ты, здесь и сейчас.
И вот когда это становится твоей сутью – ты готов. И если ты читал Киплинга (не американца) – ты можешь вспомнить и понять:
Но то, что досталось ценою зубов –За ту же цену идет!ДаоС детства я мечтал о том, о чем мечтают все мальчики: о славе и о любви. Если это сказал о себе великий Томас Вулф, то и мне не стыдно. И плевать, что он давно устарел и вышел из моды. Сами вы устарели, как показала жизнь. Американская мечта существовала во многих формах, и это была одна из лучших.
О чем бы ты ни мечтал – ты мечтаешь о счастье. И вот это счастье моей жизни, воплощение моей американской мечты выглядело так:
Я напишу великий роман. Огромный, толстый, сложный, глубокий, наполненный мудрыми постижениями и написанный блестящим языком. Много лет мои книги отвергали – с пренебрежением, поучениями, насмешками. Много лет я страдал, терпел и продолжал работать. Я преодолевал лишения, нищету, депрессию, я избегал друзей, чтобы не ощутить их унизительного сочувствия. И в конце концов мне удалось создать неслыханный шедевр, и в конце концов признание пришло. И принесло богатство и славу. Интервью, пресс-конференции, выступления в огромных залах… Вот о Нобелевской премии я не думал – она давно стала договорным таким уравнительным дерьмом… а жаль, до Эпохи Революции она много значила, знак высшей касты.
И любовь случится сама собой, как полагается настоящей любви. Лучшая девушка в мире, тоненькая и голубоглазая, с пшеничными волосами и застенчивой улыбкой, полюбит меня раз и навсегда. Она будет привязчива и терпелива, она поверит в меня с первого взгляда и будет прощать мне все. Перенесет со мной бедность и скитания, будет радоваться любой мелочи и разделять все мои чаяния. А когда я разбогатею, мы купим красивый дом и родим четырех детей: трех сыновей и дочь. И трое братьев будут оберегать единственную сестру. А потом пойдут внуки, дети с семьями будут приезжать к нам в гости, и мы счастливо состаримся, вспоминая прошлое: мирные седые патриархи в кругу семьи.