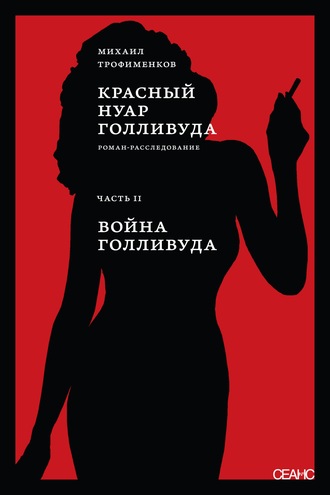
Михаил Трофименков
Красный нуар Голливуда. Часть II. Война Голливуда
© 2019 Михаил Трофименков
© 2019 Центр культуры и просвещения «Сеанс»
От автора
«Война Голливуда» – второй документальный роман из цикла «Красный нуар Голливуда» – продолжает начатый «Голливудским обкомом» рассказ о политических страстях, раздиравших «фабрику грез» в 1920–1950-х годах. Их кульминацией станет «охота на ведьм» (1947–1962) – грандиозный антикоммунистический погром, которому подвергся не только Голливуд, но и весь шоу-бизнес.
«Красный нуар» – не только название цикла, но и жанр этого, если перейти на академический язык, «очерка политической истории Голливуда». Это именно что нуар, и именно что красный.
Почему так?
Вселенная нуара больна паранойей. Это мир предательства, страха, грязной игры, больших денег, непреодолимых соблазнов. И – прежде всего – двуличный мир: за блестящим фасадом – гнилое закулисье. Идеалисты и стоики, которые сопротивляются этому миру, зачастую неотличимы – на первый взгляд – от своих антагонистов и в любом случае не чужды соблазнам.
Америка 1920–1950-х переживала нуар наяву. Несколько десятилетий прошли под знаком паранойи, страха перед колоссальным заговором красных, пытающихся, как «похитители тел», подчинить себе подсознание и сознание американцев. Не то чтобы заговора против «сердца» капиталистической системы не существовало. Коминтерн – пусть и не на всем протяжении своей истории – делал ставку на мировую революцию, хотя главным его оружием были не бомбы, а идеи. Причем и охранители, и революционеры искренне считали себя рыцарями американской мечты, незамутненного американизма. И те и другие были правы: американская мечта допускает прямо противоположные интерпретации.
Америка боролась сама с собой и в конечном счете саму себя победила. Поскольку ее сознание и подсознание формировалось прежде всего кинематографом, борьба за Америку вылилась в борьбу за Голливуд, объявленный эпицентром «красного заговора». Ее можно было выиграть, лишь уничтожив сам Голливуд.
Эта книга, как заправский нуар, населена разведчиками, провокаторами и оперативниками Коминтерна, меняющими имена, как перчатки. Беспринципными магнатами и их наемниками, владеющими искусством решать любые вопросы. Искренними сумасшедшими, спятившими от страха перед мировым коммунизмом и неприметными гениями сыска, бухгалтерами террора, величайшим из которых был шеф ФБР Гувер. Беженцами с невнятным прошлым и яростными агитаторами, не чурающимися кулачных боев. Коммивояжерами и волонтерами мировой революции и роковыми кинозвездами, неспособными сопротивляться их революционному шарму. Нацистами, гангстерами и очень специальными корреспондентами.
Как в заправском шпионском триллере, действие перемещается с Бродвея и Беверли-Хиллз на Лубянку, в окопы Испании, партизанские районы Югославии и Китая, дипломатический квартал Шанхая, французские тюрьмы и на огромный нудистский пляж в Москве. Бурлеск и трагедия следуют рука об руку.
Отличия моего нуара от классических образцов незначительны.
Во-первых, все его персонажи и события сугубо реальны.
Во-вторых, в неожиданном амплуа выступают исключительно респектабельные мастера культуры. Луис Бунюэль пересекает границы с пистолетом в кармане и чемоданами, набитыми черным налом, Джозеф Лоузи предлагает свои услуги советской разведке (и не факт, что она это предложение отвергла), Фриц Ланг работает «почтовым ящиком» Коминтерна, а Грето Гарбо – на британскую разведку.
Неправдоподобно? Конечно, неправдоподобно, если исходить из современных стерильных, антикоммунистических – и неизбежно антиисторичных – представлений о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Но раскаленные годы между двумя мировыми войнами не ведали рефлексии, принуждая к выбору между красным добром и черным злом.
* * *
Ощущения, которые я испытывал, погружаясь в межвоенные годы, выходят за рамки академического опыта историка. Описать их можно, только прибегнув к патетическим – так ведь и время было патетическое – метафорам.
Орфей в фильме Жана Кокто получал по радио туманные фразы, адресованные ему одному, – потусторонняя станция транслировала обрывки стихов его мертвого собрата-поэта. Среди советских радиолюбителей бытовала городская легенда о другой, не менее потусторонней радиостанции, которая 30 января 1934 года вела с Землей переговоры от лица экипажа стратостата «Осоавиахим-1» на протяжении нескольких часов после его гибели. Я ощущал себя таким же радиолюбителем, ловящим обрывки фраз из прошлого, голоса мертвых, но неупокоенных – поскольку не упокоены обуревавшие их политические страсти – людей.
Это было тем более странно, что голоса доносились из Голливуда Золотого века, по расхожему представлению, населенного небожителями в смокингах и вечерних платьях, чурающимися уличных страстей. Голоса заглушали и звон бокалов на церемониях Киноакадемии, и чечетку, которую Фред Астер отбивал на потолке, презрев закон всемирного тяготения, и даже треск автоматных очередей из гангстерских фильмов.
Прислушайтесь, что доносилось сквозь радиопомехи.
Когда правительство США возглавит коммунист – а то, что этот день настанет, так же несомненно, как восход солнца, – правительство будет опираться на Красную армию для утверждения диктатуры пролетариата…
Голливуд – величайший очаг подрывной деятельности в Соединенных Штатах. Мы идем по следу тарантула и намерены дойти до конца. Мы выведем на свет божий элементы, которые впрыскивают… яд в умы наших детей…
Что мы будем делать, если Луис Б. Майер выставит в окна пулеметы и сметет нас к чертовой матери…
Быть коммунистом – это был шик…
Найдется Самсон, который разрушит возводимый вами большевистский храм…[1]
Оглянитесь: половина людей в вашей гостиной – члены партии…
Фашизм уже здесь. Мы в Калифорнии это знаем…
Голливудская компартия была как Сансет-стрип. Лучший светский клуб Голливуда. Вы знакомились с уймой интересных людей, вас приглашали на вечеринки…
Кровавый кинжал СССР пронзил самое сердце США…
Самые красивые девушки Голливуда состоят в компартии.
* * *
О чем, собственно говоря, шла речь в «Голливудском обкоме», где и прозвучали все вышеприведенные слова? Назовем это очень кратким синопсисом «первой серии красного нуара».
Тридцатые вошли в историю как «красные годы Америки». На самом деле красными они – как и двадцатые – были во всем мире. Кого ни возьми из великих деятелей культуры – особенно в США, – он окажется коммунистом, попутчиком или человеком, сочувствующим великому советскому эксперименту.
Для людей первой четверти XX века был несомненен крах старого мира. Цивилизация парламентской демократии, свободного рынка и церковной морали ухитрилась – на протяжении каких-то полутора десятилетий – дважды покончить с собой, насмерть придавив тяжестью своего мертвого тела миллионы простых людей.
Первое самоубийство – Первая мировая война, убедившая выживших участников и свидетелей в том, что с этим миром по-хорошему нельзя. Большевизм – выстраданная философия «потерянного поколения».
Второе – великий экономический кризис, разразившийся в 1929 году и особенно беспощадный к США, где с 1870-х по 1940-е годы шла жесточайшая гражданская война между трудом и капиталом.
Мир вывихнут, мир сошел с ума. Единственной философией, способной дать человеку опору в этом мире, объяснить происходящее и указать выход из тупика, был марксизм. Компартия США, в конце 1920-х не насчитывавшая и десяти тысяч человек, неимоверно усилилась за счет сочувствующей интеллигенции.
Если какие-то слова и могут полно характеризовать 1930-е годы, то это слова «массы», «пролетариат», «дело рабочих» и «товарищ». – Аарон Копленд.
Голливуд игнорировал политику, но она опалила и его, когда совпали по времени три фактора.
В марте 1933 года кризис не то чтобы накрыл, а, казалось, похоронил Голливуд. Киностудии просто закрылись, что означало символическую смерть американской мечты.
В том месяце в должность вступил величайший президент Франклин Делано Рузвельт. Одни чаяли увидеть в нем своего Сталина, другие – своего Муссолини. Разочаровав и тех и других, он взялся за спасение капитализма социалистическими методами, вызвав искреннюю ненависть тех, кого спасал. Первым делом ФДР уравнял профсоюзы в правах с нанимателями.
Наконец, тогда же в Голливуде сценаристы создали свою гильдию во главе с Джоном Говардом Лоусоном. За ними последовали другие творческие цеха, порвавшие с Киноакадемией, которая изначально – о чем сейчас забыли – была фейковым, продюсерским профсоюзом. Драматическая борьба за права «творцов» шла с переменным успехом до начала 1940-х. Реакция продюсеров на их вполне умеренные требования – именно тогда студии завели политические черные списки – кажется сейчас чрезмерной. Но продюсеры, увидевшие за спинами сценаристов «призрак коммунизма», руководствовались логикой одного из персонажей «Гроздьев гнева» Стейнбека. Он считал красным любого, кто, получая 25 центов в день, имеет наглость требовать 30.
Будем последовательными марксистами. То, что именно сценаристы выступили зачинщиками смуты и составили примерно половину из примерно трехсот членов компартии, работавших в Голливуде в 1935–1945 годах, объясняется просто – превалированием базиса над надстройкой. Проще говоря, технологическим прогрессом.
С кризисом совпал приход в кино звука. Студиям срочно требовались сценаристы. Настоящие сценаристы, умельцы диалогов, а не мастера сочинять титры, комментирующие действие немых фильмов. Найти их можно было только на Бродвее. А Бродвей был в те годы территорией красных. Впрочем, продюсерам было плевать на политический радикализм наемных работников. Сценаристы – винтики в студийном механизме – были зажаты в тиски тотальной цензуры и самоцензуры: красные не позволяли себе ничего лишнего. Вкупе с литературным даром это позволило многим из них войти в голливудскую элиту.
Катастрофическая безработица вызвала массовую – речь идет о десятках тысяч человек – иммиграцию в СССР. Одновременно с безработными инженерами и рабочими паломничество в Москву совершали сценаристы, фотографы, режиссеры, актеры. Благодаря коминтерновской киностудии «Межрабпомфильм» Москва становилась столицей мирового киноавангарда. Да что там говорить: даже физкультурный парад на Дворцовой площади в июле 1936 года ставила юная американка Полин Конер, будущая звезда модернистской хореографии. Отнюдь не вездесущее ГПУ отнюдь не демонстрировало паломникам «потемкинские деревни». Советский быт не мог напугать американцев, насмотревшихся на ужасы кризиса у себя дома. Зато СССР был для них территорией реализованной утопии, воплотившей то, о чем Америка могла только мечтать: расовое и национальное равноправие, сексуальную революцию и революцию культурную.
До поры до времени компартия не интересовалась Голливудом, казавшимся неприступной твердыней капитализма, и ограничивалась параллельным, агитпроповским кино Рабочей кинофотолиги. Лицом к Голливуду она повернулась после победы нацистов в Германии, которая опровергла все расчеты на то, что пиррова победа фашизма возможна лишь в краткосрочной перспективе. Верность принципу «кто не с нами, тот против нас» была отныне самоубийственна. Дилемма «капитализм или социализм» отступила перед дилеммой «демократия или фашизм». В 1935-м Коминтерн провозгласил «политику Народного фронта», объединения всех антифашистских сил. До того компартия считала ФДР вождем «социал-фашизма», теперь же провозгласила неформальным лидером Народного фронта, а коммунизм – «американизмом XX века». К 1938 году численность партии достигла исторического пика – 75 тысяч человек; еще 25 тысяч состояли в комсомоле.
В 1935 году был создан Голливудский партийный комитет. Среди привилегий, предоставленных «творцам», была возможность состоять в партии под заемными именами. Не потому, что им предстояла разведывательная или диверсионная работа. Просто в обстановке мистического антикоммунизма утечка информации о партийности «творца» могла стоить ему карьеры. Ничем предосудительным на партсобраниях голливудские большевики и не занимались. Стыдно сказать: штудировали труды по диамату и политэкономии.
Голливуд интересовал компартию как место силы, концентрации национальных кумиров. По ее инициативе возникли десятки «фронтов» – общественных организаций, объединявших красных, «розовых», консерваторов Голливуда. Их голоса могли радикально влиять на общественное мнение, переломить его от традиционных изоляционистских настроений к антифашизму. Фронты собирали щедрые пожертвования на защиту политзаключенных, помощь Испанской республике или беженцам из Германии.
Впрочем, Голливуд конца 1930-х был не только красным, но и изрядно черным. «Война Голливуда» посвящена как раз борьбе голливудских красных со «своими» фашистами, с созданной в 1938-м году Комиссией палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности и – уже настоящей – мировой войне.
Глава 14
«У нас это возможно». – «Легкая кавалерия» Виктора Маклаглена. – Свастика над Голливудом. – Рейх в гостях у Фицджеральда
Было странно слушать, как лощеные фашистские молодчики на Пятой авеню обращались с речами к кучкам слушателей. Один из этих ораторов заявил следующее:
– Философия Гитлера основана на глубоком и вдумчивом изучении нашего индустриального века, в котором не остается места для полукровок или евреев.
Какая-то женщина перебила его.
– Что это вы говорите? – вскричала она. – Здесь же Америка! Где вы, по-вашему, находитесь?
Красивый молодой оратор вежливо улыбнулся.
– Я нахожусь в Соединенных Штатах, и, кстати, я американский гражданин, – ответил он невозмутимо. – Чаплин.
Нацистский бунд анонсировал демонстрацию в Йорквиле, немецком районе Манхэттена. ‹…› Коммунисты, социалисты, троцкисты и либералы нехотя объединились. ‹…› Мы выстроились вдоль маршрута бунда, толпясь под своими транспарантами, подозрительно поглядывая друг на друга. Появились бундовцы, маршировавшие по широкой улице немецких ресторанов. Они не выглядели грозно, они выглядели заурядно. Но некоторые нацепили повязки со свастикой, и этого было достаточно, чтобы объединить левых. Мы начали насмехаться над ними, обзывая нацистами и фашистами. Они орали в ответ, называя нас грязными еврейскими коммунистами. Маленькая седая женщина выскочила из наших рядов и начала колотить их книжкой карманного формата. Кто-то толкнул ее на землю, и тогда ряды смешались, началась драка. Наблюдавшая полиция вмешалась, никого не обойдя дубинками. Я научился орудовать туго свернутой газетой – не наносить удары, а тыкать в глаза. – Уолтер Бернстайн.
1930-е – годы, столь же черные, сколь красные. «Чрево выносило гада», стопроцентно американского: США кишели нацистскими и паранацистскими группами.
«Америка прежде всего» стала первой легитимной, влиятельной, сильной пронацистской партией в США. Тысячи людей собрались в Мэдисон-сквер-гарден перед сценой с нацистскими флагами. Великая журналистка Дороти Томпсон осмелилась прорваться на трибуну, устроила скандал, обратившись к людям: «Случилось самое страшное». ‹…› Они были достаточно умны (это же американские наци), чтобы догадаться не бить ее: все снимала кинохроника. Они вывели ее, она вырывалась, пиналась. – Сэмюэл Фуллер.
Тот митинг, на котором ораторы именовали «новый курс» «еврейским курсом», а ФДР – «Франклином Д. Розенфельдом», собрал (20 февраля 1939-го) 22 тысячи человек. Маниакальный антифашизм Дороти Томпсон питался комплексом вины перед невольно обманутыми ею читателями: интервью, которое она взяла у Гитлера для Cosmopolitan в марте 1932-го – сплав блестящего стиля и провальной аналитики. За год до победы нацизма она не оставила мокрого места от «бесформенного, почти безликого», «бескостного», «образцового маленького человека», недоразумения, не имеющего никаких шансов стать диктатором.
Заразившись антифашизмом жены, Синклер Льюис написал сенсационный роман «У нас это невозможно». Американского Гитлера он, как и многие, видел в самородке-сенаторе Хьюи Лонге, экс-губернаторе Луизианы и вероятном сопернике ФДР на выборах 1936-го. Роман не успел выйти в свет, как Лонга застрелили при мутных обстоятельствах, но актуальности не утратил: на место Лонга нашлись десятки претендентов.
Лицом «Америки прежде всего» стал кумир человечества, трогательно нескладный и застенчивый Чарльз Линдберг, первым в одиночку перелетевший Атлантику. Подумать только: недавно, в 1929-м, радиопьесу во славу героя сочинял сам Брехт. Строго говоря, это было изоляционистское движение, но изоляционизм подразумевал косвенную, если не прямую поддержку Германии, на которую евреи и англичане пытаются натравить Штаты.
В исполком движения вошли «сиротка бури» Лилиан Гиш, Дисней, Каммингс – «американский Хлебников» и один из немногих «паломников», разочарованных Советским Союзом. Порывался вступить престарелый Фрэнк Ллойд Райт, но его отвергли за «аморальное поведение». В студенческой секции комитета состоял Гор Видал.
Фашизм как состояние ума распространился еще шире.
Мелвин Дуглас ужасался в 1936-м повсеместным симпатиям к Гитлеру в Европе, но настоящий шок испытал, возвращаясь в Америку на борту трансатлантического лайнера.
Я сидел за капитанским столом и слушал разговоры бизнесменов со Среднего Запада об очень эффективном парне, который заправляет Германией, и о том, как ‹…› чертовски плохо, что у нас нет такого парня вместо этого калеки в Белом доме.
Голливуд – это вам не Средний Запад, однако и здесь люди «легко становятся жертвами фашизма» (Полетт Годдар, октябрь 1936-го).
* * *
Гитлер, однако, был обречен на вечное второе место в голливудском рейтинге диктаторов. Когда он пришел к власти, роман киногорода с Муссолини длился уже десять лет, со времен «Вечного города» (реж. Джордж Фицморис, 1923).
Душераздирающая мелодрама повествовала о жене ватиканского гвардейца, которая утопилась, ошибочно уверившись в измене мужа, и их сыне, ставшем вором и побирушкой на лондонской панели. Дуче был такой же звездой экрана, как Лайонел Бэрримор и Барбара ла Марр, хотя лишь появлялся в компании Виктора Эммануила в сцене войскового смотра. Изюминка заключалась в том, что Фицморис не использовал хронику: король и дуче снизошли до эксклюзивных съемок.
О золотой свастике за лацканом пиджака Эррола Флинна ходили лишь слухи, зато на столе Гарри Кона стояло фото Муссолини с дарственной надписью. По приглашению дуче он посетил Рим, получил из его рук медаль в благодарность за «Говорит Муссолини» (1933) и заверения, что дуче будет счастлив вложить миллион долларов в любой фильм Капры.
Капру дуче тоже принимал, когда тот представлял в Европе фильм «Недозволенное» (1932): Муссолини гордился каждым итальянцем, преуспевшим в Голливуде. Невозможно представить Гитлера не то что подчиняющегося указаниям какого-то Фицмориса, но даже почтившего память голливудской звезды. Муссолини же прислал огромный венок на похороны Рудольфа Валентино в августе 1926-го. Почетный караул чернорубашечников вскинул руки в римском салюте у гроба «шейха». Дело не только и не столько в национальности Валентино, не в том, что дуче считал себя великим драматургом (по его сценариям и пьесам сняты три фильма), не в латинском позерстве.
По большому счету искренняя, щедрая и умная забота Муссолини об итальянском кино подготовила его послевоенный расцвет. Относясь к Голливуду и как к конкуренту, с которым лучше дружить, и как к образцу для подражания, Муссолини ловко играл с ним. В конце 1936-го новый закон о поддержке итальянского кино так встревожил Голливуд, что в Италию отправился сам Хейс. По ходатайству ФДР ему удалось получить аудиенцию у Муссолини. Сделав вид, что идет на жертвы, дуче снизил объявленные квоты, позволив Хейсу ощутить себя победителем.
Весной 1936-го прогрессист Уолтер Вангер дал пресс-конференцию в апартаментах нью-йоркского отеля Waldorf-Astoria: даже путешествие через Атлантику не охладило его восторгов от двадцатиминутной беседы с дуче:
Он изумительный! Изумительный! Такой простой! Доступный! Симпатичный! Изумительный! Он все знает! [В Италии нет] ни бедных, ни попрошаек! Нет уличных мальчишек! Все в униформе! Новые здания! Новые дороги! Потрясающе! Чистый, здоровый, вежливый народ!
В надежде на преференции Вангер поинтересуется у Марио Лупорини, главы компании Artisti Associati, контролировавшей американский прокат в Италии, оценила ли итальянская сторона его вклад в пропаганду фашизма.
В Америке [Муссолини] популярнее, чем где бы то ни было. – Эмиль Людвиг.
Лично мы не встречались с дуче, но ощущали его присутствие. Он столько сделал для своего народа, что народ боготворит его. – Кларенс Браун, 1934.
Италия всегда рождала великих людей, и, когда такой человек был жизненно необходим, появился Муссолини. Vivo fascismo! Viva il Duce![2] – Мэри Пикфорд, New York Times, 24 марта 1934 года[3].
Борцы с культом личности дуче оконфузились. Лоусон и Одетс проникли в 1935-м в номер Луиджи Пиранделло в Waldorf, надеясь добиться от него порицания фашизма как такового и бойни в Эфиопии в частности, но великий драматург замахал на них руками: что вы, что вы, я вне политики. Трудно сказать, на что они рассчитывали. Пиранделло – де-факто личному посланнику дуче – предстояло объяснить Америке великий смысл агрессии против Эфиопии как священной войны цивилизации против варварства.
Я фашист, потому что я – итальянец. – Пиранделло.
Раздосадованным Лоусону и Одетсу оставалось только – вкупе с Гореликом, Элмером Райсом и Сидни Кингсли – гневно осудить Пиранделло на страницах New Theater.
Пикфорд, Кон, Браун достойны снисхождения. Дуче покорял не только бесхитростных киноработников, но и изощренных интеллектуалов (включая Рабиндраната Тагора): с каждым находил общий язык, перед каждым представал в ином, неизменно неотразимом обличии. Честертон думал о нем, когда писал о Фоме Аквинском:
Когда видишь такие головы – большие, с тяжелым подбородком, римским носом и куполом лысеющего лба, – так и кажется, что в них есть полости, какие-то пещеры мысли. Такая голова венчала коротенькое тело Наполеона. Такая голова венчает теперь тело Муссолини.
Саша Гитри, «король бульваров», самый тонкий и остроумный стилист Франции, «желал просто увидеть его, потому что есть люди, на которых так же интересно смотреть, как на портрет кисти Мемлинга или прекрасный пейзаж».
Акутагава сожалел, что у китайских «националистических романтиков» «нет человека, подобного Муссолини, который был бы способен дать им железное воспитание».
Муссолини (до Эфиопии и до союза с Гитлером, которому он сначала оппонировал) не вызывал идиосинкразии даже у людей «одной крови» с Лоусоном и Одетсом. Линкольн Стеффенс уличал в лицемерии тех, кто осуждал «божественного диктатора», сравнимого с Лениным, за подавление демократии: разве Муссолини обещал вам демократию? Судите его (как художника) по законам, им самим над собой установленным. Кстати, демократия умерла под Верденом, не так ли?
Самоубийство несостоятельной демократии – это острое, всеобщее чувство.
Скульптор Джо Давидсон был членом КДР, сторонником ФДР, в конце 1940-х он возглавит последний из фронтов – Независимый гражданский комитет художников, ученых и профессионалов. Это в его парижской мастерской состоялся в 1919-м легендарный диалог Стеффенса с банкиром Бернардом Барухом, чей бюст лепил Давидсон.
– Вы были в России?
– О нет, гораздо дальше: я совершил путешествие в будущее, и оно прокладывает себе дорогу!
Позже Стеффенс варьировал ту же мысль: «Я видел будущее, и оно действует». В 1927-м Давидсон лепил бюст Муссолини и делился со Стеффенсом: «В нем, безусловно, ощущается сила».
Муссолини можно было уважать, Гитлера – только бояться.
Интересно, как чувствует себя бюст Муссолини среди других работ Давидсона – бюстов Эммы Гольдман, Долорес Ибаррури, Чаплина, Эйнштейна, Тито?
* * *
Самые бдительные «фронтовики» готовились к худшему: актер Виктор Маклаглен сколотил штурмовые отряды, в любой момент готовые к погромам.
Бряцающие саблями банды активно вербуют новых членов. ‹…› Воинство, изначально состоявшее из экс-военнослужащих канадской и британской армии, вдруг проявило удивительный интерес к американской политике. ‹…› По словам мистера Маклаглена, новое формирование к услугам властей штата, городских и федеральных. ‹…› «Легкая кавалерия» внимает на митинге ораторам, специализирующимся на изощренной травле красных. – Кейри Макуильямс, «Голливуд играет с фашизмом», Nation, 1935.
«Голливудскую (по другим источникам, Калифорнийскую) бригаду легкой кавалерии» из восьмисот английских, шотландских и ирландских ветеранов британский подданный, отставной капитан Маклаглен сколотил еще в 1932-м, присвоив себе по этому случаю звание полковника. Задачи этой военизированной организации он определил как продвижение американизма и борьбу с коммунизмом и радикализмом.
Он смотрелся экстравагантно даже в интерьере эпохи, населенной мастерами, которым было чем похвастать и прихвастнуть: участием в мексиканской революции (Уолш, Хьюстон), службой у Пинкертона (Хэммет) или в эскадрилье «Лафайет» (Уэллман).
В четырнадцать лет сын англиканского епископа из Кента сбежал на войну с бурами, добежал до нее и даже вступил в армию. Когда начальство выяснило (далеко не сразу: больно ражий был мальчик), сколько Виктору лет, его прогнали восвояси.
В восемнадцать лет он уехал в Канаду, где, презрев место в адвокатской конторе, обеспеченное ему отцом, сделал карьеру борца и боксера-тяжеловеса. На ярмарках и в кабаках тому, кто продержится против него три раунда, сулили 25 долларов, но награда так и не нашла героя, а в 1909-м Маклаглен одолел в Ванкувере чемпиона мира – тяжеловеса Джека Джонсона.
В 1913-м, переболев австралийской золотой лихорадкой, он вступил в ряды ирландских стрелков. В мировой войне участвовали все семеро его братьев (один из них погиб), причем один вступил в армию тринадцатилетним, а другой – четырнадцатилетним; сестра Лили пела перед солдатами. По всей Англии – даже в кабинете Георга v – висели плакаты, славившие «Сражающихся Маков» и их мать-героиню.
Войну Виктор закончил помощником шефа военной полиции Багдада и армейским чемпионом по боксу. В Африке он охотился на слонов, в Индии охранял раджу. Когда гость раджи случайно прострелил Маклаглену ногу, его в утешение произвели в придворные дегустаторы. Маклаглену повезло: не успел он вступить в должность, как раджу отравили.
В общем, к 34 годам он разве что в кино не снимался, хотя актерский опыт накопил, участвуя в шоу «Римские братья: величайшие в мире представители физической культуры греческого искусства»: обнаженные богатыри, покрытые серебряным кремом, принимали картинные позы, изображая античных героев.
Дебютировав в кино в 1920-м на родине, он вскоре перебрался в Голливуд. В 1928-м его с первого взгляда полюбил Джон Форд, испытывавший слабость к брутальным ирландцам. Роль отщепенца, предавшего товарищей по Ирландской республиканской армии («Осведомитель», 1935), принесла Маклаглену «Оскар».
Насколько велики были глаза у страха перед «кавалеристами»? Чем они, собственно говоря, занимались?
В ожидании форс-мажора, когда их призовет на помощь Вашингтон, кавалеристы в пошитых по спецзаказу мундирах красовались на вечеринках и лихо чеканили шаг на Голливудском бульваре, маршируя к облюбованным барам. Однажды они хором исполнили под окнами офиса Херста (Макуильямс считал его закулисным кукловодом бригады) гимн в честь его непреклонного антикоммунизма.
Самым реалистическим из их военно-политических замыслов было вторжение в Грузию, которую гусары, очевидно, путали с Азербайджаном, если не с Джорджией. Маклаглен пообещал некоему миллионеру вернуть национализированные большевиками нефтяные прииски, а тот в благодарность финансировал бригаду.
Так излагают геополитические амбиции Маклаглена современные историки. На самом деле все обстояло гораздо смешнее. Экипировку кавалеристов оплатили целых два беженца-миллионера-нефтяника, но миллионерами они были в той же мере, что и «князьями» и даже «членами династии Романовых», за которых многие в Голливуде их принимали.
Наперсники Маклаглена и звезды светской хроники – братья Давид и Сергей Мдивани – были известны во всем мире (вкупе с третьим братом – Алексеем) как «женящиеся Мдивани». Проще говоря, как жиголо высочайшего полета. Их отец Захарий действительно был генерал-майором из свиты Николая II и даже военным министром независимой Грузии, бежавшим от большевиков в Париж, но посмеивался: «Я – единственный в мире князь, получивший титул в наследство от своих детей». Справку о княжеском титуле выдал или продал братьям Евгений Гегечкори, экс-министр иностранных дел Грузии и дядя жены Лаврентия Берии. Характерно, что Ной Жордания, премьер-министр Грузии в изгнании, ранее решительно отказал Мдивани в подобном сертификате.
Действительно ли Захарий вывез в изгнание пакет акций нефтяных промыслов, одному богу ведомо. Но к нефтяному бизнесу его дети отношение имели. В январе 1934-го Давид и Сергей предстали перед Верховным судом Лос-Анджелеса по обвинению в хищении тридцати тысяч долларов из бюджета ими же основанной Pacific Shore Oil Company. Даже странно, что братья покусились на такие «копейки». Обычно они ворочали миллионами: Мдивани женились на богатейших женщинах мира и пускали по ветру их состояния, что – вкупе с рукоприкладством – стоило им затяжных бракоразводных процессов.
Сергей уже побывал мужем (1927–1931) Полы Негри, богатейшей дивы Голливуда, и любовником Глории Свенсон. Но к моменту встречи с Маклагленом братья пребывали на стадии охоты на невест: осенью 1933 года они оба развелись. Сергей – со знаменитой сопрано Мэри Маккормик. Давид – с Мэй Мюррей: звезда «Веселой вдовы» (1925) Штрогейма, прозванная «девушкой с распухшими губами», обвиняла мужа в растрате трех миллионов за пять лет супружества.
Единственный боевой эпизод с участием голливудской кавалерии – инцидент перед Китайским театром Граумана: когда Маклаглен оставлял отпечаток ноги на «площадке звезд», из толпы в него бросили два яйца. Террористом оказался актер массовки, которому Маклаглен на съемках сломал нос. Выяснив, что он не агент Коминтерна, гусары, обнявшись с хулиганом, отправились обмывать примирение.
Бригада считается ныне безобидным «мальчишником», вроде яхт-клуба Джона Форда или конных клубов Гари Купера и Джорджа Брента. Культуру клубов привили Голливуду наводнившие его в 1920-х британцы, относившиеся к Калифорнии как своей колонии, населенной дикарями.





