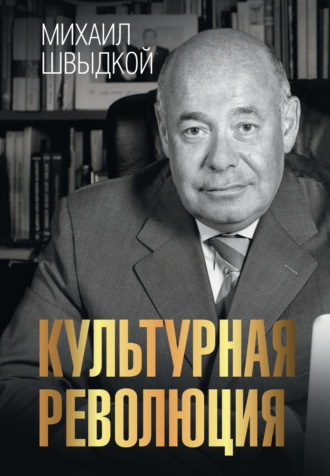
Михаил Швыдкой
Культурная революция
Дерзкое величие театра
4 октября 2022 года, исполнилось тридцать лет московскому Международному театральному фестивалю имени А.П. Чехова. За это время российской публике было представлено более 600 спектаклей из 54 стран мира, над созданием которых работало 437 режиссеров, хореографов, авторов и руководителей музыкальных проектов.
Когда 4 октября 1992 года на сцене Театра имени Моссовета Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова открыл первый Чеховский фестиваль спектаклем «Коварство и любовь» Ф. Шиллера в постановке Темура Чхеидзе с участием Кирилла Лаврова, никто не мог представить, что именно этот смотр сценических достижений станет одним из самых важных явлений в мировой культурной жизни трех минувших десятилетий. За эти годы Валерий Шадрин, возглавивший после смерти К. Лаврова Международный союз театральных деятелей, который был учредителем новой фестивальной институции, не просто создал площадку, где стремились показать свои спектакли ведущие театры и режиссеры мира, он сотворил уникальный, не имеющий равных, продюсерский организм, соединяющий все лучшее, что существует в современном искусстве. Драма, цирк, балет, кукольный и уличный театр, музыкальные постановки, – не выезжая из Москвы, можно было увидеть все многообразие мировой сцены. Такого не мог позволить себе ни один из столичных мегаполисов. Сколько споров было в начале 1990-х вокруг того, зачем новой России с разрушенной экономикой, когда ни на что катастрофически не хватало денег, с неопределенной политической структурой, да и вообще с неведомым будущим, необходимо такое излишество, как международный театральный фестиваль. Можно было отшутиться, вспомнив знаменитую фразу Михаила Светлова: «Мне нужна роскошь, а не товары первой необходимости!..» Но суть была, конечно, в другом.
Театральная революция в России, начатая К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко, продолженная Вс. Э. Мейерхольдом, Евг. Б. Вахтанговым, А.Я. Таировым в первой половине XX столетия, а затем получившая новое воплощение в 1950 – 80-е в работах плеяды ярчайших отечественных театральных мастеров, сущностно повлияла на развитие мирового сценического искусства, режиссуры и педагогической работы с актерами. Именно поэтому еще на Первом учредительном съезде Союза театральных деятелей СССР, проходившем в октябре 1986 года в Кремле, Кирилл Лавров заявил о необходимости организации Всемирного театрального фестиваля в Москве. Этой идее было суждено осуществиться уже в новой стране, в Российской Федерации. Но именно СТД СССР, его сотрудники во главе с Валерием Шадриным, который был назначен в 1986 году первым секретарем нового Союза, провели огромную подготовительную работу для того, чтобы Чеховский фестиваль смог сразу занять особое место в культурной картине мира, где существовали такие мощные и известные фестивали, как Авиньонский, Эдинбургский или Аделаидский. Здесь важно вспомнить рано ушедшего из жизни Валерия Хазанова. Он долгие годы был ответственным секретарем советского отделения Международного института театра при ЮНЕСКО, а после создания СТД СССР возглавил его международный отдел. У Валерия был огромный опыт работы с деятелями мировой сцены, но самое главное – была репутация человека, которому можно доверять.
Именно во второй половине 1980-х годов СТД СССР проводит ряд больших проектов, которые можно объединить слоганом, использовавшимся в ФРГ, – «Русские идут». Это были масштабные фестивали советского театра в большинстве стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Советское искусство было востребовано не только потому, что оно открывало движение жизни в недавно закрытой стране, – оно поражало высоким классом мастерства, демонстрируя миру то лучшее, что было создано не только на подмостках Москвы и Ленинграда, но и в столицах республик, входивших в СССР. Советский Союз был страной, где культура не просто отражала реальность, она нередко была важнее, сущностнее самой этой реальности.
Миру было предъявлено большое театральное искусство, которое было способно выиграть соревнование с жизнью. Именно поэтому позволил себе позаимствовать название этих заметок у Александра Володина, у которого есть пронзительный рассказ под названием «Дерзкое величие жизни». Международный Чеховский фестиваль создавали люди – а среди них были самые лучшие, самые яркие театральные деятели нашей страны, – для которых театр был не просто домом, он был их жизнью. Большей, чем реальная жизнь. В те дерзновенные годы мне посчастливилось работать в журнале «Театр» и общаться с людьми, уверенными в том, что только на сцене они могут по-настоящему проникнуть в природу человека и мир человеческих отношений. Их вера в театр не изменилась даже тогда, когда мы почувствовали властную силу реальности. Телевизионные трансляции заседаний Верховного Совета СССР демонстрировали документальную драму такого класса, что с ней было трудно конкурировать профессиональным драматургам. Но и в этой борьбе лучшие театры страны отстояли свое профессиональное достоинство.
Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, который включал в себя самые разные художественные и организационные проекты, – к примеру, Всемирную театральную олимпиаду, – притягивал в Москву лучших режиссеров мира, от Питера Брука и Петера Штайна до Кристиана Люпы и Робера Лепажа.
Приезжая в Москву со своими новыми работами, они начинали задумывать будущие спектакли, что называется, на русской почве. Некоторые из них надолго связывали свою жизнь с российской культурой. Так, Деклан Доннеллан, основатель знаменитого театра «Cheek by Jowl», вместе с российскими артистами создал серию первоклассных шекспировских постановок и в конце концов занял пост президента Фонда поддержки Чеховского фестиваля.
За минувшие тридцать лет Чеховский фестиваль подарил всем нам не просто неповторимые художественные впечатления. Он вновь и вновь заставлял поверить в волшебную силу искусства, которое способно менять каждого из нас.
Октябрь 2022
Бумажные журавлики
В Токио 27 сентября 2022 года на территории крытой арены для боевых искусств «Будокан», которая находится неподалеку от Императорского дворца, состоялась церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Проститься с этим безусловно выдающимся политическим деятелем Страны восходящего солнца приехали высокопоставленные представители почти 160 государств, среди которых президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, король Иордании Абдалла Второй ибн Хусейн, вице-президент США Камала Харрис, Николя Саркози и другие. От нашей страны в этой церемонии принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин и автор этих строк.
В любых случайностях всегда отыщется своя логика. В конце жизни, уже покинув пост премьер-министра, Синдзо Абэ стал председателем японского Организационного комитета Фестиваля российской культуры, который проходит с 2006 года. Соглашение о его создании мы вместе с Михаилом Галузиным подписывали с японскими коллегами в 2005 году. Тогда председателем Оргкомитета был тоже один из самых влиятельных японских политиков Ёсиро Мори, он занимал пост премьер-министра в 2000–2001 годах. Уходящие со своих постов «тяжеловесы» японской политической жизни в последние шестнадцать лет погружались в культурное сотрудничество с нашей страной, понимая, что российское искусство ценится в Японии необычайно высоко.
Программа Фестиваля российской культуры год от года становилась все насыщеннее, ее зрителями и слушателями за прошедшее время стали более 18 миллионов японцев. Этому немало способствовало и то обстоятельство, что на протяжении первых 11 лет существования фестиваля председателем российского Оргкомитета по его проведению был Сергей Нарышкин. Какими бы ни были отношения между нашими государствами, культурный обмен сохранял свою востребованность. И в том, что в нынешнем году, когда после начала специальной военной операции на Украине на нашу страну обрушились небывалые санкции, семнадцатый по счету Фестиваль российской культуры смог открыться в конце августа в Токио совместным концертом молодых российских и японских музыкантов, – заслуга наших друзей и коллег в Японии.
Неслучайно еще в мае нынешнего года, при жизни Синдзо Абэ, японские деятели искусств, участники культурных обменов с Россией во главе с выдающейся актрисой Комаки Курихарой, которая все эти годы была заместителем председателя Оргкомитета фестиваля, обратились к общественности с посланием о роли культуры в современном неспокойном мире. «Искусство выше политики» – эта мысль, по их мнению, сохраняет свое значение даже в то время, когда политика хочет доминировать над всеми сферами человеческой деятельности. В этом нет прекраснодушия.
Неслучайно Синдзо Абэ, проводя последовательную политику сближения с нашей страной, был вместе с президентом России инициатором проведения беспрецедентного в истории отношений двух государств «перекрестного года “Россия – Япония”». Его постоянные контакты с Владимиром Путиным были исполнены не только политического прагматизма, но и человеческой симпатии. По подсчетам экспертов, они провели 27 встреч в стремлении разрешить существующие проблемы и приблизиться к подписанию мирного договора между Россией и Японией. Они понимали значение искусства и культуры в этом процессе. В данном случае «почва и судьба» не упраздняли искусства – они возлагали на него сущностные надежды.
И никто не думал, что Синдзо Абэ, искреннему патриоту своей страны, самому молодому премьеру в послевоенной истории Японии, уготована столь трагическая смерть.
Синдзо Абэ был лидером Либерально-демократической партии и дважды: в 2006–2007 годах и с 2012 по 2020 год возглавлял японское правительство. За это время он сумел вернуть в публичное поле дискуссию о необходимости внесения поправок в конституцию Японии, которые бы обеспечили Японии большую независимость, свободу действий, которая была ограничена в послевоенный период, когда основные законы были прописаны под влиянием американской администрации. Он был уверен, что Япония выстрадала свою национальную самостоятельность. Он считал необходимым обеспечить для своей страны мирное и безопасное будущее.
Синдзо Абэ, родившийся в 1954 году, принадлежал к тому поколению японских политиков, которые хорошо помнили о трагедии Хиросимы и Нагасаки, когда две американские атомные бомбы с игривыми названиями «Малыш» и «Толстяк» унесли жизни более 200 тысяч человек. Он, как и нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, прекрасно знали историю японской девочки Садако Сасаки, которая, надеясь излечиться от лучевой болезни, старалась сделать как можно больше бумажных журавликов оригами – символов удачи и долголетия.
По японской легенде, если сумеешь сотворить 1000 бумажных журавликов, то в ответ получишь 1000 улыбок и исполнение желаний. Двенадцатилетняя Садако Сасаки перед уходом из жизни в 1955 году успела сделать только 644 журавлика – и тогда японские дети, а за ними и дети других стран мира, продолжили ее работу. Памятник в Хиросиме, созданный Казуо Кикути и Киёси Икэбэ, посвященный Садако, называется «Дети атомной бомбы». И каждый год 5 мая в День детей тысячи бумажных журавликов окружают фигурку девочки, так и не дожившей до своего совершеннолетия.
Нынешние отношения России и Японии переживают тяжелейший кризис. Японское правительство – один из лидеров в санкционной войне с Россией. Но во время государственных похорон Синдзо Абэ я размышлял вовсе не об этом. Вспоминая мудрого японского политика, думал о наших детях, внуках, правнуках – российских и японских, у которых должна быть долгая жизнь.
Сентябрь 2022
Современное современно
«Современным искусством, как мне кажется, может считаться искусство, созданное в 2022 году», – Екатерина Проничева, много занимавшаяся актуальной культурой, а недавно назначенная генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника, завершая программу «Агора», предложила ту примиряющую формулу, которая в социальном плане отражает сегодняшние художественные реалии как в нашей стране, так и за ее пределами.
Две закрывшиеся в Москве выставки-ярмарки современного искусства – Cosmoscow в Гостином дворе и Blazar в Музее Москвы – подтвердили подобную позицию в полной мере. Работы студентов, которые представляют всю палитру отечественных художественных вузов, дополняли творчество зрелых и известных уже мастеров, но и они не опровергали того мнения, что на сегодняшнем рынке искусств для всего найдется место – и для жизнеподобного реализма, и для творчества, проникающего за пределы предметного мира. Здесь используют самые разные инструменты – от холста и красок до программного обеспечения. Но в этом многообразии, как кажется, нет внятного конфликта. Зачем бороться друг с другом, когда у каждого художника, у каждого художественного направления есть своя публика, свои почитатели и свои покупатели? И уж точно не имеет смысла выяснять, кто главнее: эстетическая борьба ушла в прошлое, что имеет свои положительные и отрицательные стороны. Подобная картина современной художественной жизни вовсе не означает «конца истории» искусств.
Ведь если взглянуть на историю человечества, то развитие искусства всегда происходило в социальной и художественной борьбе. Даже конфликт между творческим видением Эсхила, Софокла и Еврипида в «златокудрой» греческой античности V столетия, века высшего расцвета Афин, был результатом не только эстетической, но и общественной дискуссии. Еврипид сумел разглядеть и выразить те глубинные противоречия афинской жизни, которые не могли разрешиться даже с появлением «бога из машины». Сценические изменения – появление второго и третьего протагониста, что казалось революцией в театральном деле, – были лишь следствиями попыток осмыслить меняющийся мир.
Смена художественных направлений, как правило, отражала слом исторических эпох, революционные изменения в социально-экономической и духовной жизни человечества. Можно по-разному масштабировать те или иные исторические события, вглядываясь в изменения, которые происходили в течение одного века, или рассматривая процессы перехода от одной эпохи к другой, как, например, движение от средневекового искусства к искусству Возрождения, но мы неизменно разглядим напряженную творческую дискуссию, которая вбирала в себя множество смыслов.
Новое художественное творчество рубежа XIX–XX столетий рождалось в острой полемике с академическим искусством и всеядным натурализмом. Именно в эту пору с особой остротой встает вопрос о том, что такое современное искусство, чему оно наследует и от чего отказывается. Революция в пластических искусствах, театре, нарождающемся кинематографе, литературе, музыке происходила одновременно со взрывом в науках. Новое искусство не было художественным хулиганством, желанием эпатировать благопристойную публику, как казалось некоторым даже очень умным современникам. Его творцы стремились к познанию меняющегося мира в неменьшей степени, чем их предшественники. Но так же, как современные им ученые, они обнаружили, что при устремлении к глубинному постижению реальности перестают действовать те закономерности, которые применимы при изучении предметного мира с помощью классической «ньютоновой» механики. То есть привычных художественных практик. Это время новых представлений о времени и пространстве. Достаточно вспомнить гипотезу Анри Пуанкаре об односвязном компактном трехмерном многообразии, сформулированную великим французским математиком в 1904 году и через столетие доказанную великим российским математиком Григорием Перельманом. Или теорию относительности (термин Макса Планка), которую называют «релятивистской физикой». Материя потеряла осязаемость, видимость. Путь ученых на свой манер преодолевали художники. Традиционные представления о красоте отступали перед этими поисками новой реальности.
Течение времени отделяет зерна от плевел. То, что считалось эпатажным на рубеже XIX–XX столетий, уже во второй половине прошлого века стало признанной классикой. Искусствоведы напомнят о художественных скандалах, которые вызывало новаторство импрессионистов и постимпрессионистов. Но сегодня им восхищаются даже те люди, которые с подозрением относятся к поискам нынешних художников, считая их разрушителями прекрасного. То есть так же, как сто с лишним лет назад многие современники относились к произведениям Ван Гога, Пикассо или Кандинского.
Сегодня появилась возможность рассматривать историю искусств не только как череду конфликтов художественных направлений, но как некое единство, где у каждого явления есть своя праистория в прошлом. Исходя из такого подхода, блистательный куратор Жан-Юбер Мартен создал одну из самых заметных выставок последних лет «Бывают странные сближенья…» в ГМИИ имени А.С. Пушкина.
…Но разговор о языке искусства утрачивает свой смысл, когда современность взрывается невероятными реальными событиями, обжигающими не блеском интеллекта, а кровью и страданиями. Когда человеческое бытие и небытие вступают в непримиримую борьбу. И эта новая боль диктует художнику неведомый творческий путь.
Сентябрь 2022
Место силы
«Когда я поднялась на холм и оказалась среди надгробий, где лежат останки моих предков, я почувствовала – это место, которое давно искала. Место силы». Екатерина Клебанова с мудрой сосредоточенностью выразила то, что жило в душах всех, приехавших в белорусский районный центр Шклов, 26 августа 2022 года. И, уверен, всех жителей города. И единственной чудом спасшейся свидетельницы трагедии – 89-летней Клары Альтшуллер.
В нынешние жесткие времена, когда борьба за памятники Второй мировой войны для европейцев стала делом политики, а для нас вопросом нравственности, создание и сохранение каждого мемориала Великой Отечественной войны – это умножение исторической справедливости.
Предложение провести реставрацию и художественно облагородить руины старого еврейского кладбища «Бейс Хаим», где захоронены останки жертв Шкловского гетто, замученных в августе – декабре 1941-го, с которым Илья Клебанов обратился к Александру Лукашенко, президенту Республики Белоруссия, было поддержано в декабре 2019 года. Пандемия задержала работу, но, быть может, в этом тоже была рука провидения. Георгий Франгулян, который стал автором проекта, получил дополнительное время, чтобы создать удивительную архитектурную композицию, в которой развалины старой крытой лестницы, ведущей на кладбищенский холм, с разбитыми ступенями, оставшимися со времен войны, приводят к вертикальным серым столбам-монолитам, напоминающим традиционные еврейские памятные знаки. Их семь – как свечей в меноре.
Они задают ритм всей композиции кладбища с центральным монументом и лежащими на земле надгробиями, где написаны имена зверски уничтоженных евреев, жителей этого района. Холм окружен рвом, в котором закапывали расстрелянных взрослых и живых малолетних детей, – нацисты экономили оружейные припасы. И земля эта, прекрасная на исходе лета, как и во все другие времена, была ни в чем не виновата, хотя носила на себе выродков рода человеческого, которые радовались тому, как с хрипами удушья из жизни уходили ни в чем не повинные люди.
Снова и снова ко мне возвращалась страшная фраза историка другого гетто, в Хмельнике Винницкой области, сказанная про моих брата, сестру и их маму, про первую семью моего отца: «Они не страдали, их просто сожгли». Их сожгли в январе 1942 года, об их смерти отец узнал уже после победы под Сталинградом, где ему, прошедшему самые страшные бои, искалеченному, чудом удалось выжить. Стоя на холме Шкловского кладбища, вспоминал о прабабушке и прадедушке, застреленных около их дома в Одессе, когда их гнали в гетто. Обо всех, кто погиб в Великой Отечественной и других войнах, защищая свое право на жизнь. О тех, для кого сегодня война с нацизмом не абстракция, но суровая реальность. У каждого – свои воспоминания о войне. Все они, очень личные, претворяются в ту высокую материю, которая и называется патриотизмом.
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
И она не терпит суетности.
Камень – главный материал еврейских кладбищ, куда, как правило, не приносят цветов, их заменяют поминальные камешки. Но цветы принесли местные жители, для которых это место памяти существует с середины 50-х годов прошлого века, когда братскую могилу, обустроенную здесь, обозначили как воинское захоронение за номером 6186. Тогда же, в середине 50-х, на этом кладбище перезахоронили останки жертв Шкловского гетто.
Так они и покоятся на еврейском кладбище все вместе, как когда-то все вместе жили в Шклове, одном из важнейших центров восточноевропейского иудаизма последних десятилетий XVIII и первых десятилетий XIX столетия, когда город был передан во владения Екатериной Великой своему бывшему фавориту генералу Семену Зоричу. В то время, когда в еврейской общине «шкловские мудрецы», ученики и приверженцы Виленского Гаона, вели непримиримую борьбу с хасидами и добились в ней безусловного превосходства, Зорич с таким же успехом превращал Шклов в «маленький Петербург». Он построил не только корабельную, кожевенную и канатную фабрики, но и театр, труппа которого была настолько хороша, что после его смерти 14 танцовщиков были приняты в состав Императорского балета. Помимо балетной школы для девочек, он учредил благородное училище для мальчиков, отпрысков русских и польских дворян. По существу, оно было военным, его программа позволяла говорить о нем как о кадетском корпусе. И все это в городке, где в 1790-х годах из 2381 взрослого жителя восемьдесят процентов были евреями, а синагога располагалась на площади рядом с театром.
История Шклова хранит множество удивительных событий и имен, которые сделали его частью мировой политики и культуры. Здесь состоялась памятная встреча Екатерины Великой и австрийского императора Иосифа Второго, здесь сформировался один из лидеров российской социал-демократии Павел Аксельрод, из здешних краев – президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко и выдающийся советский актер Петр Алейников… Лариса Силивестрова и Ирина Ганеева, которые знакомили нас с городом и экспозицией Шкловского краеведческого музея, не делали различий между большими и малыми линиями истории, – их переплетение и составляет человеческое бытие.
Именно поэтому, казалось бы, частное дело одной семьи оказалось таким важным для самых разных людей. В том числе и для жителей сегодняшнего Шклова. «Мы считаем вас земляками» – это обращение Андрея Камко, председателя районного исполкома, к приехавшим из Москвы и Санкт-Петербурга не было фигурой речи.
В 1655 году, когда войска царя Алексея Михайловича покидали город, они вывезли список с особо почитаемой иконы «Утоли моя печали». Мы увозили с собой образ Шклова, удивительную энергию заново рожденного еврейского кладбища «Бейс Хаим», название которого в переводе с идиш означает «Дом жизни». Мы увозили с собой свои печали, утолимые и неутолимые. Без них жизнь мертва.
Август 2022


