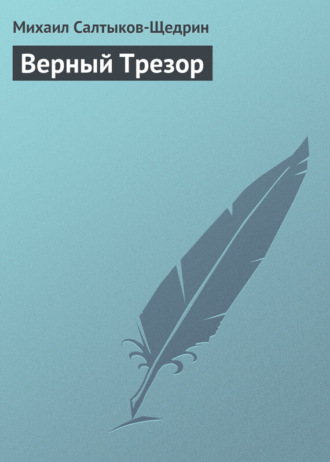
Михаил Салтыков-Щедрин
Верный Трезор
В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: mea culpa! mea maxima culpa![2] В сущности он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсеет. Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе – он, все равно что в будни, на цепи скачет!
– Да замолчи ты, постылый! – крикнет на него Анфиса Карповна. – Знаешь ли, какой сегодня день!
– Ничего, пусть лает! – пошутит в ответ Никанор Семеныч. – Это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!
Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия – это когда бодливой хозяйской корове Рохле по требованию городского пастуха колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.
– Вот тебе счастье какое, а за что? – сказал он Рохле с горечью. – Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят – ты много молока даешь; плохо кормят – и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтоб хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, motu proprio[3] , день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип от беспокойства, – а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!
– А цепь-то? – нашлась Рохля в ответ. – Цепь?!
Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак [4].
Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.







