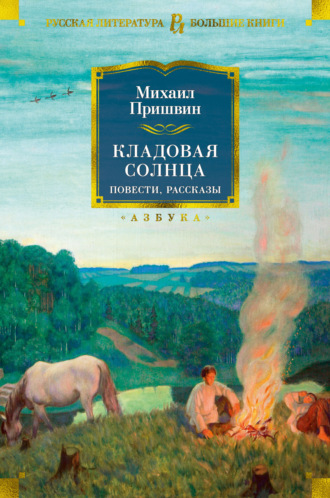
Михаил Пришвин
Кладовая солнца. Повести, рассказы
© М. М. Пришвин (наследник), 2023
© О. В. Астафьева, статья, 2023
© Оформление, состав. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®
Черный Араб
Длинное ухо
Сама родится новость в степи или прибежит из других стран – все равно: она, крылатая, мчится от всадника к всаднику, от аула к аулу.
Случается, джигит задремлет, и опустит поводья, и вот-вот прозевает новость.
Нет! Лошадь, увидев другого утомленного и задремавшего джигита, сама свернет и остановится.
– Хабар бар? (Есть новости?)
– Бар! (Есть!)
Лошади отдохнут, всадники поболтают, понюхают табаку и разъедутся. Миражи, как в кривом зеркале, отразят везде их встречу. Лишь у границы степи и настоящей песчаной пустыни новость чахнет, как ковыль без воды.
И рассказывают, будто земля лежит без травы и новостей серо-красная, и такая там тишина, что звезды не боятся и спускаются на самый низ.
Добрые люди мне посоветовали на время пути назваться арабом, и будто бы я еду из Мекки, а куда – неизвестно. «Так, – говорили, – скорее доедешь: и сунулся бы кто поболтать – нет: араб ничего не понимает ни по-русски, ни по-киргизски». Я пустил этот слух, и вот побежало по Длинному Уху:
«На пегатом коньке с лысинкой едет Черный Араб из Мекки и молчит».
Новость побежала, как буран по степи, до настоящей пустыни, до тишины, до серо-красной земли, до низких звезд.
Но и туда, говорят, забегает оседланный конь. Там дикие кони без подков неслышно перелетают от оазиса к оазису, будто желтое облачко. Оседланный увидит их, скосится на спящего хозяина, брыкнет задом – и прощай!
– Хабар бар? – спросят дикие.
– Бар! – ответит подкованный.
И по-своему расскажет о Черном Арабе и пегатом коньке. Конь – по-своему. Я – по-своему.
Содержатель соленого озера – есть и такая должность – пустил слух из своего домика:
«Проезжему арабу из Мекки нужен зачем-то киргиз, знающий по-русски, пара лошадей и тележка».
Скоро под окном кто-то постучал и сказал:
– Араб здесь?
– Здесь араб! – ответил я и выглянул в окно.
Там, на берегу соленого озера, стояла тележка и два сытых коня, а у окна – киргиз в широком халате и с нагайкой в руке.
– Что нужно? Откуда узнал обо мне? – спросил я его.
– От Длинного Уха, душа моя, – ответил этот киргиз и засмеялся.
Сверкнули белые, как сахар, зубы из-под алого сочного колечка губ, лицо закруглилось, желтое, как спелая дыня, глазки исчезли в узеньких щелках.
Мы долго чему-то смеялись.
У него все хорошо: и лошади, и тележка, и все кошемки, и все веревочки – все в лучшем виде.
– Моя лошадь телом не жирная и не очень сухая, масть вороная и саврасая. Чистые слова, – говорил Исак, мой будущий переводчик, спутник, товарищ.
– Чистые, чистые, – повторял я за ним.
– Ты, душа моя, верь мне, – просил он, – другой станет хвалиться: «Вот моя лошадь!» – а я такой привычки не имею.
Мы скоро поладили.
Стали укладываться, собираясь в далекое странствование, сотни верст от почтового тракта, по кочевым дорогам.
– Что, как убьют? – спросил я.
– За что убьют? – ответил Исак. – Раз мы их верблюда не трогаем, раз мы их лошадь не задеваем, какое им дело!
И вот, уложив сухари и всякие дорожные вещи, прикрутив крепко-накрепко все кошемки и мешки, перекрутив все еще раз веревками, мы с Исаком – в тележке. Карат и Кулат бегут размеренной рысцой, а назади в поводу мой пегатый конек. Показались на горизонте степные всадники. Длинное Ухо насторожилось.
– Хабар бар? – спрашивают одни.
– Бар! – отвечают другие. – Араб сел в тележку, а пегатый конек с лысинкой трусит назади.
Солнце согрело эту старую, зябкую по ночам землю, и теперь всюду полетели миражи. Телеграфные столбы почтового тракта ушли от нас, колыхаясь, как караван верблюдов. Зато головки гусей на длинных шеях вытянулись, и стоят на берегу соленого озера, и сверкают на солнце, будто фарфоровые чашечки телеграфных столбов.
Наша кочевая дорога вьется двумя колеями, поросшими зеленой придорожной травой, вперед и назад одинаково, словно это две змеи вьются по сухому желтому морю. Озеро – одно из тех обманчивых озер пустыни – блестит, как настоящее озеро. С воды поднимается птица и летит нам навстречу, размахивая двумя большими крыльями.
И вдруг будто сдунуло. Ни озера, ни птицы, ни верблюда – все будто рукой сняло.
Собака бежит нам навстречу, болтая ушами, как тряпками.
– Ка! – кличет ее по-своему Исак.
Собака, радостно взвизгивая, подбегает. Мы останавливаем лошадей. Желтая и тонкая, как пружинка, степная борзая собака. Она смотрит на нас ужасным для животного, раздвоенным взглядом, угадывая: мы или не мы?
– Ка! – зову я собаку.
Не мы! Она взвизгивает и мчится. Но сил нет, а впереди без конца дорога, как две змеи.
Она садится на сухую землю и воет.
– Ка! Ка! – кричим мы в последний раз и трогаем лошадей.
Собака бежит к нам покорная, навсегда наша. И по виду будто довольна и ничего с ней не случилось: не все ли равно, какому служить хозяину; впереди, как назади. Степь-пустыня везде одинакова. Степное большое солнце везде светит ровно, не мигнет, не заблудится за деревьями.
Свет и тишина… Собака бежит покорная. Но вой остался в пустыне, и раздвоенный взгляд остался. Длинное Ухо услыхало вой, и миражи заметили, как смотрела собака, потерявшая хозяина.
Пусто!
Для кого же светит в степи такое богатое и открытое солнце?
Тень одинокого облака, бродя от черепа к черепу, от косточки к косточке, будто указывает: вот для кого светит солнце в пустыне, – они тоже по-своему жили и выли, и недешево досталась пустыне ее светлая тишина с миражами.
К полудню солнце в степи белеет. Мы останавливаемся у колодца попоить лошадей. Исак расстилает халат и молится богу. Карат, Кулат и Пегатый в ожидании, когда кончит Исак молиться, согнули головы и звездой смотрят вниз, в отверстие колодца: нельзя ли самим достать воду, а может, видят в этой воде, похожей на кофе, утонувшего степного зайца или крысу.
– Алла, алла! – шепчет Исак, падая на халат, и опять поднимаясь, и опять падая.
Его желтое лицо то сольется с сухим ковылем, то опять покажется на синем небе. Попадает, попадает, проведет ладонями по бороде, поднимет узкие, чуть-чуть раскосые глаза к небу и замрет, сложив ладони.
Даже кобчик не побоялся упасть в это время на птичку возле самого халата Исака, но промахнулся и помчался в степную даль. Исак будто и не заметил и все стоит на халате, ладони по-прежнему набожно сложены, но глаза без молитвы мчатся за птичкой.
В синеве заколыхалась большая белая чалма.
– Алла, алла! – быстрее замолился Исак.
– Мулла едет? – спрашиваю я, когда он повесил халат на тележку.
– Узбек на верблюде, – отвечает Исак.
И опять все сдунуло: не мулла, не узбек, а женщина-джигит, повязанная белым платком, мчится на коне.
Она потеряла мальчика.
– Не видали ли мы ее мальчика? – спрашивает женщина.
– Мы никого не видали, – ответил Исак, – только вот пристала собака. Не ее ли эта собака?
– Нет! – ответила женщина, спросила что-то Исака, меня, посмотрела на лошадей.
– Она спрашивает, – перевел Исак, – не видали ли мы араба на пегатом коне, – не он ли унес ее мальчика?
Исак на это ответил:
– Араб сидит тут в тележке и курит, а Пегатый стоит у колодца.
Тогда женщина, несмотря на все свое горе, спросила:
– Куда едет араб, зачем?
Исак объяснил ей:
– Араб едет из Мекки, молчит, не он украл мальчика, а скорее всего Албасты, желтоволосая бесплодная женщина.
Наездница, как бы в ответ на это, хлестнула коня нагайкой и умчалась.
Мне тоже захотелось сесть на своего Пегатого и тоже быть причиной миражей, как эта женщина.
И вот я – степной джигит. На голове у меня малахай из меха молодого барана, обшитый сверху зеленым бархатом. На ногах мягкие козловые ичиги и сверх них тяжелые полуваленые, полукожаные саптомы. Полы бешмета обернуты вокруг ног и прижаты к седлу. Черный просторный халат закрывает и бешмет, и седло, и половину коня. В правой руке у меня нагайка, в левой – повода. И весь я в этой одежде, такой широкой, сижу на маленьком пегатом коньке с лысинкой. По виду – киргиз, по слуху – араб, еду и сею миражи.
Опять на горизонте показываются всадники Длинного Уха. Два пустились мне наперерез. Но я их обману. Мне стоит только толкнуть тяжелыми саптомами Пегатого в бока, и края малахая на голове завертываются назад, как уши у гончей. Ветер свистит. Конек кипит. Степь оживает. Она не мертвая: она вся живая от конца до конца и вся поднимается, вся отвечает человеку.
– Берге (сюда), джигит! – кричат назади.
Я оглядываюсь. Оба всадника стоят на дороге далеко позади: у одного палка с петлей для ловли лошадей. С той стороны к ним подъезжает Исак.
– Хабар бар? – спрашивают они, когда мы съезжаемся.
– Бар! – отвечает Исак.
И рассказывает им по-своему, указывая пальцем на меня. Вот они видят теперь не мираж, а настоящего араба, слушают своими собственными ушами повесть о нем и наслаждаются.
– Ио-о! – восклицает один.
– Э! – отвечает другой.
Только и слышно, что «о» да «э».
Чуть было и о деле не забыли. Как же! Они потеряли верблюдицу. Не видали ли мы их верблюдицу?
Нет! Мы верблюда не видели. Собака пристала. Видели женщину, потерявшую мальчика, а верблюда не видели.
Но все-таки джигиты уезжают очень довольные: посмотрели на живого араба! Теперь, через десять лет, через двадцать, если они приедут на это место, называемое Сломанное Колесо, то вспомнят араба со всеми подробностями: что малахай у него был зеленый и бешмет серый, а халат был подпоясан красным кушаком, и на лбу у Пегатого была лысинка.
Я поберег свою лошадку и сел опять к Исаку, и опять мы трусим по кочевой дороге и смотрим миражи.
До вечера у нас было еще несколько встреч. Возле местечка Закопанный Колодец нас остановили два джигита и долго говорили с Исаком.
– О чем говорили? – спросил я.
– Все о той же верблюдице, – ответил Исак.
Вторая встреча была возле пересохшего ручья, когда от камней и черепов на степь легли вечерние тени.
– Про что теперь говорили? – пытал я Исака.
– Да все про ту же верблюдицу, – ответил он.
Под самый вечер мы увидели в степи тележку с опущенными оглоблями и подумали: «Это оставила женщина, потерявшая мальчика». Все встречные всадники потом до самого заката спрашивали о женщине, потерявшей мальчика, и рассказывали, что у верблюдицы волк утащил верблюжонка.
Когда солнце совсем близко подошло к степи, с чистого места поднялись три гуся – признак близости озера. А когда наконец Исаку непременно нужно было омываться перед вечерней молитвой, мы подъехали к большому, но сильно заросшему камышами пресному озеру.
Солнце будто бы стыдится вечером, думают киргизы-магометане: оно краснеет, потому что когда-то его считали за бога. Исак молится не солнцу, как хочется думать, а невидимой отсюда Каабе.
– Алла, алла! – падает он на халат.
Два последние всадника, рассказывавшие о волке и верблюдице, тоже сходят с коней. Вот на красном небе показались их черные халаты, и вот они сами то покажутся с воздетыми к нему руками, то сольются с землей.
– Алла, алла!
Теперь вся степь расстилает халаты и шепчет: «Алла!» У всех лица озарены заходящим солнцем, и только степные храмы-могилы все такие же черные.
Пока Исак молится, я хочу пройтись к озеру. Оно чуть не на версту заросло камышами. По еле заметной тропинке я вступаю в их лес, скрывающий от меня все. Тут, в этих зарослях, водятся гуси, ночуют дрофы; волки, наскоро оторвав у баранов жирные курдюки, закусывают и отдыхают. Тигры – намного южнее; но все-таки в полумраке такого сухого леса жутко.
Тропинка сворачивает в другую сторону от Исака, уводит от озера, опять куда-то сворачивает, приводит к яме, наполненной водой, и опять ведет неизвестно куда.
Слепая тропинка.
Какая-то незнакомая птичка насвистывает.
«Что это за птичка такая? – думаю я. – Никогда в жизни не приходилось слышать таких голосов. Мне непременно нужно увидать эту птичку». Итак, я иду по слепой тропинке. Везде по сторонам в сухих камышах пугающие шорохи, и впереди то затихающий, то вновь зовущий голос незнакомой птички.
Я иду скорее, бегу от наступающей в камышах тьмы, сбиваюсь с тропинки, ломаю с треском камыши, падаю и, наконец, ясно вижу красный свет заходящего солнца и редкую черную сеть последних камышей.
Никакой птички за камышами нет. Между мною и красным диском солнца – черный купол степной могилы, высокий, как храм. Возле могилы движется стадо баранов, отливая красными на солнце курдюками, и с ними степенно едет старик-пастух верхом на быке, посвистывая, будто птичка, и покрикивая:
– Чу!
– Берге! – кричу я старику, чтобы он подъехал ко мне и посмотрел с быка, где Исак.
Старик и бык услыхали.
– Чу! – крикнул старый на баранов.
Все стадо повернуло и двинуло ко мне. А за стадом – бык и старик.
– Руки, ноги здоровы? – приветствую я по-киргизски старика.
– Аманба, – отвечает он.
– Скот здоров?
– Аман. А как твои руки и ноги и твой скот? – спрашивает меня старик по-своему.
– Аманба. Аман, – отвечаю я.
Больше этого я ничего не могу сказать по-киргизски, а только показать рукой на камыши, где Исак.
Глажу доброго быка между рогами и приговариваю:
– Джаксы, джаксы!
Старик смотрит в камыши с быка; увидал Исака, обрадовался, понял.
Глажу доброго старика и приговариваю:
– Джаксы, джаксы, аксакал, хороший, хороший старик.
И он, добрый, слезает.
А я сажусь сам на быка, окруженного теперь множеством горбоносых баранов с отвислыми нижними губами, бородатых и рогатых козлов, овец, коз, ягнят, и во весь дух кричу над озерными камышами Исаку.
Исак давно отмолился и едет сторонкой, следя за мной по шевелящимся верхушкам камышей. Машет рукой. Зовет к себе.
Я свищу на баранов.
– Чу! – кричу на быка. – Берге, – зову старика.
Курдюки баранов колышутся, как резиновые подушки, козлиные рога между ними, словно живые вилы, все идут, бородатый козел впереди, старый киргиз позади – и так мы шествуем навстречу Исаку.
Недалеко, весь на виду, аул этого старика, несколько грязновато-белых шатров. Хозяин звал нас к себе переночевать, обещался зарезать для нас ягненка, но мы отказались: старик бедный, в ауле грязно, а тут у озера хорошо, и погода отличная. Старик что-то много рассказывал Исаку, помогал нам собирать сухой помет – кизяк – для костра и очень благодарил за несколько кусков сахару и сухарей.
– Что он рассказывал? – спросил я потом Исака.
– Все про того же араба, – ответил Исак, – про женщину, потерявшую мальчика, и про верблюдицу.
Ночью будто бы дочь этого старика хотела поправить мальчика в люльке, хватилась – нет мальчика; бросилась вон из юрты, а там на пегатом коне мчится с мальчиком в степь араб. Будто бы около этого же времени верблюдица хватилась верблюжонка, заревела и, не помня себя, унеслась. За ней ускакали женщина и сыновья. Так и остался хозяин аула на старости лет один пасти баранов.
Исак все рассказал бедному старику об арабе, уверял его, что мальчика унесла Албасты, желтоволосая бесплодная женщина, не араб, а верблюжонка – волк. Старик будто бы, по словам Исака, под конец поверил и сказал:
– Йо-о, Худай! Раньше, бывало, бесплодные женщины ходили ночевать и молиться в святые горы Аулие-Тау, за сотни верст, и великий Худай посылал им за это деток, а вот теперь стали красть мальчиков у бедных людей. Йо, Худай!
Так и уехал от нас старик, покачивая головой и приговаривая:
– Ох уж эти бесплодные женщины!
Пегатый
Когда и как загорелась первая звезда, мы не заметили. Пока разговаривали со стариком, солнце садилось, и все время в ауле на красной заре дрались два козла. Старик угнал свое стадо в аул, а мы стали готовиться к ночлегу в степи. Попоили лошадей и покормили, надев им на морды мешки с овсом. Когда возились с лошадьми, воробьи слетелись к тележке; одни уселись спокойно на краю спинки, подставив грудки красному закату, другие бегали по тележке и переговаривались о всех событиях дня в степи. Потом мы вытащили из тележки кошму, сухари, чай, сахар, мясо и все разложили в степи. Подняли вверх оглобли тележки, перевязали ремнем и от ремня на уздечке почти к самой земле спустили чайник с озерной водой. Этот чайник Исак аккуратно, почти любовно обложил со всех сторон шариками сухого конского помета и поджег. Струя вечернего ветра как раз из-под тележки слегка поддувала, и под чайником горело синеватое пламя.
В это время в ауле остатки семьи старика возились со стадами. Что они там делали, нам было не видно: вероятно, доили коз, кобылиц и верблюдиц. У них там кто-то пел, и так просто и однообразно, будто это шалун-мальчишка позвякивал ручкой ведра. Под звуки этой песни стада постепенно ложились на землю. И вот, когда опустились два верблюда, и весь скот сравнялся, и песня смолкла, тогда я увидел первую звезду. Ее будто спустили к нам на серебряной нити – такая она была большая и низкая.
– Чолпан! – сказал Исак. – Пастушеская звезда восходит, когда стада возвращаются с поля, и меркнет, когда стада уходят утром кормиться. Самая хорошая наша звезда.
Она, конечно, была на небе давно, но мы ее заметили только теперь. Другая звезда всегда есть на небе, если первая замечена, а приглядеться – есть и третья, и четвертая.
Еще немного, и вот уже везде ворожат над нами созвездия.
Вдруг все изменилось. Чайник вскипел и брызнул из носика на кизяк. Зашипело. Исак встрепенулся и снял чайник. Тогда изнутри этой маленькой башни, сложенной из сухих шариков, в освобожденное от чайника место вырвалось беспокойное красное пламя. И небо, все это небо, с его большими пустынными низкими звездами, исчезло от маленького земного, но близкого нам пламени.
Исак на это не обратил внимания, заварил чай и привесил на конце уздечки котелок с водой для мяса. Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось.
Чай настоялся. Мы сидим с Исаком друг против друга, поджав ноги по-восточному, и пьем чай вприкуску из китайских чашек без блюдечек, придерживая их снизу пальцами. Теперь мы говорим о звездах попросту.
Что я могу сказать об этой звезде? – указал Исак кусочком сахара на небо.
– О какой? – спрашиваю я, – об этой? – И тоже своим кусочком сахара указываю на Полярную звезду.
Исак мычит в знак согласия и кивает головой.
Что я могу сказать Исаку о Полярной звезде? Да, она неподвижная.
– И по-нашему она неподвижная.
– И у нас и у вас одинаково! – удивляюсь я.
– Все это видно на небе с древних времен, – отвечает Исак, – и у нас и у вас, везде одинаково. У нас она называется Железный Кол. А что можно сказать о двух звездах, яркой и тусклой, недалеко от Железного Кола? – спрашивает опять Исак.
– Это две звезды в хвосте Малой Медведицы; я о них ничего не знаю.
– Это два коня, Белый и Серый, – объясняет мне Исак, – оба привязаны за Железный Кол и ходят вокруг него, как Карат и Кулат вокруг тележки. А эти семь больших звезд, – указывает Исак на Большую Медведицу, – семь воров хотят украсть Белого и Серого коней, а они не даются и все ходят себе и ходят вокруг Железного Кола. Когда семь воров поймают Белого и Серого коней, будет конец миру. Все это видно на небе с древних времен. Все звезды что-нибудь значат.
– А эта кучка звезд? – указываю я на Плеяды.
– Эта кучка звезд – овцы, испуганные волком. Знаешь, как овцы от волка собираются?
– Неужели и волк есть на небе?
– Да вон же волк, душа моя!
И показывает мне кусочком сахара волка на небе.
– На небе как на земле! – говорю я, удивленный.
– Как в степи, – отвечает Исак, – вон и мать тоже ищет ребенка.
– Может быть, есть и араб?
– Э-э!
– И Длинное Ухо?
– Э-э!
Мы молчим. Звезды тихо мерцают над нами, будто дышат, будто заметили нас возле тележки, и улыбаются, и шепчутся; и от звезды к звезде и по всему Млечному Пути такая большая семейная радость.
Звезда у звезды спрашивает, как джигиты в степи:
– Хабар бар?
– Бар! Араб чай пьет под звездами.
Исак зажигает от кизяка сухую тростинку. Он хочет ею осветить котелок и узнать, не поспело ли мясо. Отрезал ножом кусочек, пробует.
Котелок снят. Костер пылает. И неба со звездами опять будто и нет. Земное пламя освещает нашу тележку и небольшой круг сухой травы на степи.
Мы расстилаем грязную тряпку вместо скатерти и едим по-киргизски: прямо руками, швыряя кости нашей собаке. Она где-то во тьме под тележкой хрустит. Карат и Кулат шуршат травой. И какая-то большая птица все укает над нами и укает. Поравняется с нами, укнет, и опять надолго пропадет, и опять укнет. Это птица Юзак, будто бы жених, потерявший невесту.
Сверкнул какой-то огонек, похожий на зигзаг тлеющей спички. Фыркнули кони. Волк!
Мы стреляем по огоньку: снопы красного огня летят в тьму. И на гул выстрелов отвечает лай собак и гомон в ауле.
– Где лошади?
– Тут.
Заливаем пылающие шарики конского навоза остатками чая. Небо открывается нам на всю ночь. А месяц, будто венчик святого, показывается на краю степи. И в свете его на другом краю неба гаснут Плеяды – испуганное стадо овец, и волк, и мать, потерявшая ребенка, и часть Млечного Пути. Остаются только самые крупные звезды.
Ложимся по ту и другую сторону тележки на кошме. Под подушкой у меня малахай, в ногах – саптомы, сбоку – ружье, сверху – вторая теплая кошма. На стороне Исака кормятся Карат и Кулат, на моей – Пегатый. Чуть что – нужно сбросить с себя кошму и выстрелом пугать волка.
Вот я теперь ясно вижу, как птица Юзак, тоскующий по невесте жених, совершает свои большие круги под звездами; вот он над нами укает, вот дальше, вот не слышно, и опять приближается. Ищет, зовет, укает, но все по тем же и по тем же кругам. Безнадежно печальны эти стоны тоскующей птицы высоко над пустынной землей, но ниже звезд.
Карат подошел и чешется о тележку.
– Чу, Карат! – кричит на него Исак.
Лошадь переходит на мою сторону, к Пегатому. Теперь на моей стороне два коня. На небе четыре вора из семи один за другим медленно спускаются вниз, надеясь в эту ночь обмануть Белого и Серого коней у Железного Кола.
«Отчего тут звезды такие большие и низкие?» – думаю я, завертываясь в кошму. И кажется мне – оттого это, что земля тут подо мной такая сухая и старая. Чем старше земля, тем будто ниже и звезды. Чего им бояться?
– Чу, Кулат!
Открываю кошму. Второй конь переходит на мою сторону, а Пегатый ушел далеко и чуть виднеется, окруженный блестками мороза на ковыле, будто звездами.
Не слишком ли далеко ушел Пегатый? Подняться? Холодно. Исак спит.
Я надеваю на голову малахай, хочу встать, но вместо этого завертываюсь кошмой, согреваюсь дыханием и опять думаю: «Не слишком ли далеко Пегатый ушел по этим звездам?» Вот промчится желтое облако диких коней – и прощай Пегатый!
Хочу встать – не могу.
А Пегатый будто вот уже и подходит на самый край степи-пустыни. Земля серо-красная. Звезды спускаются и лежат. Мчится желтое облачко диких коней; увидали Пегатого, остановились, ржут, зовут. Звезды колышутся, поднимаются и опять опускаются, как искры, потревоженные лодкой на море. Пегатый согнул крутую шею, искоса, одним глазом смотрит на хозяина возле тележки.
«Спит ли? – спит!»
Высоко сверкнули подковы над степью-пустыней.
От оазиса к оазису перебегают дикие кони. Останавливаются при встрече.
– Хабар бар? – спрашивают старые.
– Бар! – отвечают молодые. – У края степи, возле самой пустыни спит Черный Араб, а пегатый конек с лысинкой здесь.
– Это там, на простой земле, он пегатый и с лысинкой, – поправляют старые мудрые кони, – а здесь его имя пусть будет отныне и до века – гнедо-пегий конь с белой звездочкой.







