
Михаил Нуайме
Последний день
Молчание ал-ʻАскари, оставляющее открытым не только конец романа, но и его пространные рассуждения о «поиске собственной самости» – это, безусловно, не философское молчание-эпох^, которое в конечном счете служит вечному вопросу Аристотеля о том, «что есть сущее». Молчание бывшего доктора философии – это мудрейший из ответов на ожесточенные споры философов, «канонизированный» христианским (и не только) преданием о божественном ответе Иову и Антонию Великому. «Внимай себе и не подвергай исследованию судеб» – об этом известном с семинарской скамьи афоризме Нуайме вспоминает, проводя своего героя через искушения радостью и испытания смертями незнакомого охотника и раскаявшейся в измене жены (к счастью, смертями мнимыми). В этом изводе «Последний день» является, вне всякого сомнения, апологией бессилия школьной, схоластической философии и человеческого, «телесного» желания перед лицом неизбежности настоящего последнего дня Homo Sapiens, равно как и речью, произнесенной в защиту безмолвной надежды. «Христианской надежды», – добавим мы.
Роман «Последний день» не отвечает на вопросы, но отстаивает правомерность их существования. Кому нужна измена Руʼйа и восемнадцатилетняя болезнь Хишама, который в самый день своего исцеления спешит уйти с Не-Именуемым? В чем ценность одиночества, подаренного Мусе ал-ʻАскари Последним днем? Почему главный оппонент главного героя так и остается безымянным?.. Ответа на эти вопросы у умудренного семьюдесятью годами писателя нет. Взамен однозначных, всегда могущих быть оспоренными более сильным оратором утверждений Нуайме предлагает читателю пережить «умирание», в тихом свете которого любое противоречие имеет свой вес постольку, поскольку оно причастно жизни. Доктор ал-ʻАскари, пришедший в смятение от однозначного полуночного повеления «проститься с Последним днем», обретает покой в «странном», многозначном гностическом сне[26]. Пример неудачливого профессора как бы подсказывает читателю: человек теряет право говорить, когда он слышит и слушает. И, хотя сам ал-ʻАскари так до конца и не научился слышать, он изловчился как можно чаще прислушиваться к Последнему – и в то же время Первому – своему дню, принимать его чужой – и одновременно собственный – бурлеск жизни.
Наверное, именно это обстоятельство никогда не сможет примирить «Последний день» с «Пророком» Джебрана и «Заратустрой» Ницше с одной стороны и с произведениями апологетов антиномий, французских экзистенциалистов – с другой. Муса ал-ʻАскари, при всем его видимом, наносном скепсисе по отношению к внешним атрибутам религиозной традиции, все-таки остается верным Евангелию, которому оставался верен его создатель. Профессор хорошо понимает, что единственное Существо, «имеющее власть» говорить, отлично от его «самости» – «камешка, облепленного снегом». Это Существо-Вседержитель видится им, как и многим другим проповедникам всеединства (в том числе русским), везде и во всем – в природе и супруге, в сыне и в богоподобных глубинах собственной, маленькой, почти плоской души. Но доктор ал-ʻАскари, осмелившийся помолиться Тому, Кого нельзя описать, так и не находит в себе сил заявить о своеобразном «вступлении» в права «наследования» Богу: о «новом Мусе ал-ʻАскари» читателю «Последнего дня» не известно почти ничего. Кроме, правда, того факта, что он действительно может родиться, чтобы каким-то неведомым образом пронести тихий свет сквозь темень чувств и «непросвещенного сердца».
События программного романа Нуайме разворачиваются на тесной площадке двадцати четырех часов. Однако упомянутый выше открытый финал напряженного, порой и вовсе мучительного дня доктора Мусы ал-ʻАскари не дает нам узнать о конце этого дня. Быть может, он, подобно седьмому дню творения, продолжается и сегодня? Вспоминая об этом предположении Августина, Нуайме-богослов не грешит против истины размеренной человеческой жизни. Да и как может быть иначе, если написанное неуклюжим пером неготового к «Новому дню» ал-ʻАскари творение так и не успело раскрыть перед читателем символику имен своих героев? Муса ал-ʻАскари (Моисей-Воин) не одерживает никакой победы, Руʼйа ал-Кавкабиййа (Видение Небесное) не предстает перед глазами влюбленного мужа, Хишам (Щедрость) так и не протягивает руки помощи своему растерянному отцу. Один только Не-Именуемый остается верным своей безымянной полноте, в которой явственно читается основное послание «Последнего дня», учащего внимательного читателя вспоминать о принципиально неразрешимых проблемах. «Роман-трактат», обрушивающийся в своем начале против всякой в корне слабой философии, венчается самым что ни на есть философским призывом: задавать вопросы, на которые в принципе нельзя ответить. Правда так и останется непознанной, но стремление к ее познанию, добрая дерзость и благоговение перед существованием истины отдадут в награду человеку его самого.
Впрочем, недосказанность, вложенная автором в саму грубоватую ткань произведения, оставляет герменевтические «ворота» «Последнего дня» открытыми – если не сказать настежь распахнутыми – перед литературными критиками. «Философия молчания» Нуайме, его первый тщательно проработанный манифест, по-прежнему ждет своего читателя, который, вдохновленный или, напротив, раздраженный бессилием его главного героя, непременно должен продвинуться на несколько шагов вглубь «темного тоннеля» вечной темы жизни и смерти, пугая черноту, окутавшую первый и последний дом Мусы ал-ʻАскари вложенным в руку ливанским классиком бумажным фонариком. К счастью, этот путь по наскоро набросанной «реке времен» теперь может проделать самостоятельно и русский читатель, оставляемый нами наедине с прямой речью «русского араба» Михаила Нуайме.
Ф.О. НофалАвгуст 2017 г., Одесса.
Последний день
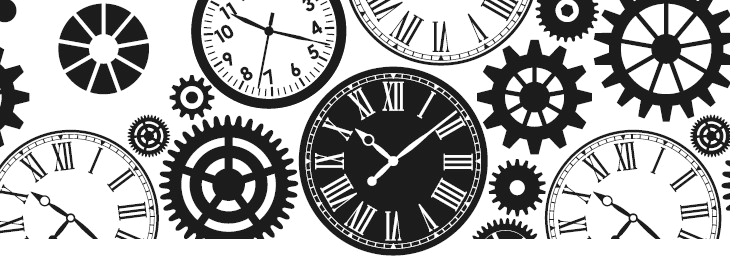
Час первый
– Встань и простись с Последним днем!
Едва услышав этот голос, я мигом очнулся от глубокого сна, легким движением скинул тонкое покрывало и прямо сел в своей кровати.
Я открывал глаза очень медленно, будучи уверен в том, что первые лучи рассвета застанут меня в моей же комнате, наверное, тогда и удастся увидеть в шаге от кровати, или даже еще ближе, кому же принадлежит этот голос. Хотелось бы услышать от него немного больше того, что уже было мною услышано. Этот голос был слишком уж чистым, властным, решительным…
Однако моя комната по-прежнему пряталась в слепой темени; нельзя было даже отличить в ней одну вещь от другой. Меня сковывал страх, буквально онемело все тело с головы до пят; казалось, будто где-то неподалеку стоит невидимый человек, пристально в меня вглядывающийся. Иначе откуда бы мог взяться звук голоса, до сих пор звенящий в моих ушах?
– Встань и простись с Последним днем!
Я протянул дрожащую руку к торшеру, который всегда стоял рядом с моей кроватью, и не без труда нащупал выключатель. Свет разогнал тьму, и я, к вящему своему сожалению, понял: в комнате, кроме меня, никого нет. Все вещи оставались на тех местах, на которых лежали, когда я засыпал. Часы на запястье показывали полночь, и полуночную тишину, опутавшую меня, дом и сад, не тревожило ничего, кроме моего прерывистого дыхания и моего же беспокойного сердцебиения.
Был бы я одним из тех людей, что видения видят или получают тайные откровения, то нисколько не удивился бы услышанному. Я знавал многих женщин и мужчин, рассказывавших о видениях, настигших их во сне и наяву, и голосах, непонятно откуда с ними говоривших. Среди них был и один из моих коллег по Университету, преподаватель естественнонаучных дисциплин, который, казалось бы, по роду своей деятельности не должен был увлекаться подобными вещами. Как бы то ни было, именно он рассказывал мне о том, как однажды, во время семейного обеда, услышал предостерегающий голос своего вот уже десять лет как покойного отца, раздающийся откуда-то из-под стола и заставивший его отпрянуть в ужасе. Помнится, его удивляло, что никто не верил в эту историю, даже ближайшие родственники. По правде сказать, я тогда ему поверил, ведь в моей жизни не было ни одного божьего создания честнее этого мужчины.
А сам я… Да что «я»? Я пробежал целых пятьдесят семь лет жизни, и только сегодня мне довелось принять «звонок» из «того» мира, наверное, именно поэтому я и был так растерян и смятен… Меня всю жизнь водили дни, но я так и не научился вести их за собой, то есть я с благодарностью принимаю всю ту радость и горечь, которую они приносят, привыкаю к ним и не пытаюсь их привлечь к себе на службу. Да и кто я такой, чтобы приручать время, делать его заложником собственной воли? Вот, например, жена оставила меня год тому назад, чтобы жить с юношей, который ее любит и которого она любит не меньше. Если бы она любила меня больше, чем его, то вряд ли ушла бы и «прилепилась» к нему. Ей тогда едва исполнилось тридцать семь, а ему – двадцать пять; его я хорошо его знал – он учился у меня на философском отделении Университета. Сейчас оба они проживают в Швейцарии.
Конечно, я хотел бы, чтобы жена оставалась здесь – рядом со мной и нашим несчастным сыном Хишамом, но она предпочла уехать. Что я мог сделать?.. Даже сейчас, когда меня спрашивают о ней, я отговариваюсь примерно так: «Она уехала в Швейцарию к родственникам», при том чувствую, что люди мне не верят, и даже знают, что мои слова являются ложью. Насколько же больно осознавать, что мой язык – а вслед за ним и моя душа – скатываются ко лжи! Ничто в жизни я не порицал так, как оборачивание правды ложью; да только что я могу поделать, коль скоро мое положение, по мнению людей, целиком и полностью позорно (при том, что позорное деяние совершила моя жена, а не я)? Я-то по-прежнему хочу работать в Университете, общаться с коллегами-преподавателями, встречать студентов в аудитории, не давая им повода думать, будто за мной неотлучно волочится шлейф горького несмываемого позора.
Сегодня же я хотел проснуться на рассвете, чтобы успеть просмотреть рукопись моей книги о суфийском движении и его влиянии на арабскую философию и мировую мысль. Нужно было отнести ее в типографию, а оттуда бежать к хирургу, советовавшему мне удалить желчный пузырь, который, согласно результатам рентгена, полон камней и потому может разорваться в любой момент. Но я проснулся в полночь – и разбудил меня не желчный пузырь, не молчаливая рукопись, а голос, непонятно откуда раздавшийся и непонятно что вбивший мне в барабанную перепонку:
– Встань и простись с Последним днем!
Какой «Последний день» он имеет в виду? Люди обычно считают, что один день заполняет собою ровно двадцать четыре часа, тянущиеся от одной полуночи к следующей, но значит ли это, что «Последний день», небрежно брошенный голосом, начинается сейчас и заканчивается спустя сутки? А что голос сказал бы о космонавте, который, облетев землю семнадцать раз за двадцать пять часов, семнадцать раз наблюдал восход солнца и семнадцать раз вглядывался в его закат? А что голос скажет о другом космонавте, который, кружа вокруг полюса планеты, не видит ни одного заката? Если у полюса не бывает ночи, то что же такое этот «день»? Когда он начинается и кончается? Каким там бывает «Последний день»?
Предположим, что голос имел в виду день, тянущийся от одной полуночи до другой. Но почему он назвал его «последним»? Он станет последним в моей жизни или же в жизни всего мира? Существуют ведь религии, что проповедуют наступление Последнего дня, к которому их адепты должны готовить свои добрые дела; в тот день каждый человек будет вознагражден по заслугам: праведники войдут в рай, где под их ногами будут течь реки вина и меда, а грешники отправятся в адское пламя… Неужто за этим днем придет День расплаты? Или уже завтра государства, играющие оружием массового поражения, взорвут свои снаряды и уничтожат все живое на суше и в море, превратят Землю в одну безжизненную пустыню? Неужели завтрашняя война положит предел этому последнему дню человечества?
Если все это так, то почему голос выбрал именно меня для того, чтобы сообщить об этом и дать возможность «попрощаться с Последним днем»? Если бы он так же беспардонно разбудил и других людей, то каждое окошко в деревне зажглось бы, подобно моему, электрическим светом. Но нет – тьма обволакивает деревню и все, что спит в ней, а воцарившаяся страшная тишина пугает меня невиданной своей глубиной: собаки не лают, цикады не стрекочут, вода не шумит, ветер не свистит, листья деревьев не перешептываются друг с другом.
Нет-нет, «Последний день», о котором говорил мне голос – это мой (и только мой) день. В этом нет ни капли сомнения. Это – последний мой рывок к могиле. «Могила»… До чего же мерзкое слово!
– Но что же с тобой, учитель? Почему ты дрожишь? Тебе должно быть стыдно за себя! Разве ты не доктор философии? Вот и настало время настоящей философии! Какова же ее цена, если она не укрепляет дух человека, стоящего буквально над своим гробом? Какова ценность вообще какой-либо вещи, если та может быть побеждена одним лишь видом могилы? Ты же сам говорил: «Меня всю жизнь водили дни, но я так и не научился вести их за собой… я с благодарностью принимаю всю ту радость и горечь, которую они приносят». Так вот: дни привели тебя к этому самому Дню, а этот самый День ведет тебя к могиле. Чего ты боишься, что тебя беспокоит? Может быть, могила, в которую тебя бросит твой Последний день, станет более теплым и отрадным прибежищем, чем та могила, в которой ты уже лежишь.
– Может быть, может быть… Но я хочу побольше узнать о самом благовестнике. Чей голос я услышал только что?
– Пусть это будет голос ангела или демона. Пускай это будет голос божественных Суда и Предопределения. Ты же не отрицаешь, что слышал его?
– Как я могу отрицать то, что до сих пор звенит в моих ушах и бьется в каждой капле моей крови?
– Ты не веришь в сказанное им?
– Верю. Да, верю. Но вместе с тем предпочел бы не верить.
– Почему?
– Потому… потому что ненавижу могилу.
– А вот могила тебя не ненавидит. У нее нет ненависти к кому-либо или к чему-либо, она открыта для всего, что вообще ходит или ползает по земле, – равно как и для всего, что застыло или остановилось.
– Я не готов опуститься в нее сегодня.
– А разве кто-либо был готов к этому до тебя?
– У меня слишком много дел, которые нужно закончить.
– Например?
– Например, операция на желчном пузыре…
– Ха! Могила избавит тебя от этой необходимости.
– …или, хотя бы, моя книга, которую надо донести до типографии и отредактировать. Эту книгу я писал целых десять лет. Я хочу услышать отзывы о ней, хочу присутствовать на ее обсуждении в философских клубах…
– Ха! Могила избавит тебя и от нужды в книге.
– …и жена, моя жена, которая меня бросила! Да, я достаточно с ней промучился, но в ней есть… должна быть живая совесть! Допустим, ее страсть и похоть попрали всякий стыд и мораль, но я уверен, что совесть в ней когда-нибудь, да проснется. Она вернется ко мне и к своему несчастному ребенку… Я вот уже прямо слышу, как она просит у меня прощения, и хочу, чтобы она знала: я простил ей это преступление в тот самый час, когда она его совершила…
– Ха! Могила легко заменит тебе и жену!
– …а мой ребенок, Хишам! Господи, это же моя самая любимая и вместе с тем самая тяжелая ноша! В момент его рождения я воображал, будто само время выламывает мою дверь, чтобы одарить меня невиданным счастьем, но, увы, оно принесло мне необычайно изуродованное существо. Сегодня ему восемнадцать. Его голова превосходит размерами все когда-либо виданные мною головы. Я в самом деле удивляюсь тому, как его шея держит этот огромный шар… Предплечья, руки и пальцы моего мальчика слишком сильны для этого возраста, а вот его длинным, худым ногам повезло меньше: их покрывает постоянно осыпающаяся короста и какая-то шелуха, чем-то похожая на перхоть. Конечно, он не может даже встать на ноги, а его язык еле ворочается в рту. Он способен издать разве что невнятное мычание. Но его огромные карие глаза с поволокой… В них столько глубин и углов, столько затаилось призраков, что я многое бы отдал, лишь бы постичь все их измерения, испытать на себе и познать их истинный смысл.
Но сегодня этот ребенок, мой ребенок отдан на попечение прислуги. Как я могу уйти, не обеспечив его всем необходимым?!..
– Ха-ха! Могила избавит тебя и от забот о его судьбе, глупец!
– …дом! У меня же еще есть дом, тот, что я покупал в рассрочку три года назад! Я до сих пор не провел несколько платежей, не оплатил всей его стоимости, а ведь если я опоздаю хоть на день, бывший хозяин получит полное право вернуть его себе, как свою собственность, законно присвоив, к тому же, неплохую сумму денег… Я приобрел автомобиль и купил этот дом, отстоящий на десятки миль от города и Университета, только для того, чтобы исполнить волю жены и обеспечить ей безбедное, спокойное существование. Как же мы с ней были счастливы в тот день, когда, наконец, переступили этот порог! Мы тут же, как два воробья, принялись обустраивать комнаты, украшать их и расставлять наши вещи… Настолько же счастливы мы были в автосалоне, когда я подписывал бумаги, сделавшие нас владельцами выбранного ею автомобиля! Мы заплатили половину суммы, разделив остаток на многолетний кредит, и поехали домой. Руль был в ее руках; она вела машину так уверенно, так естественно!..
Неужели теперь я должен по ветру пустить дом и автомобиль, подарить кому-то заплаченные мною деньги – плод моей недолгой жизни? Эти деньги – не просто какие-то бумажки; они – моя кровь, мое сердце, без устали работавшее целые годы. Мне дорога моя кровь, равно как дорого мне мое сердце!..
– Ха! Могила быстро заставит тебя выкинуть из головы и дом, и автомобиль. А если в них ты вложил свою кровь и мысли, что ж, она вытравит из тебя всякую мысль, высушит каждую каплю крови.
– …а мои университетские связи! Как я могу их так быстро, буквально за один день, разорвать? Сегодня я должен выступить на философской конференции с докладом об «Энхиридионе» Эпиктета, затем вечером мне нужно присутствовать на общем собрании профессоров, которое пройдет под председательством ректора. Да и в конце концов, я должен отработать обещанный срок, чтобы получить достойную пенсию, вернуть долги нескольким моим коллегам… Кто сделает за меня мою работу? Кто отдаст за меня мои долги?
– Невежда! Могила и вычтет твои деяния, и обесценит все долги, как твои, так и чужие!
– Нет-нет-нет! Это невозможно! Мне не хватит одного дня, чтобы расквитаться со всеми счетами! Мне нужно на день больше – нет, на месяц, на год…
– Ха! Кому недостаточно одного дня, не хватит и целой вечности! Будь уверен: могила сама сведет все счеты.
– Я хочу знать час своей смерти…
– Прознав о дне смерти, ты пришел в ужасное смятение. Что же случится тобой, если ты узнаешь о часе смерти?
– … Я хочу знать и о том, как именно я умру. Лопнет желчный пузырь? Разорвется сердце? Не выдержит мозг? Я утону? Буду сожжен? Задохнусь? Поскользнусь и сверну шею? Или пробью себе голову? Меня укусит змея? Догонит шальная пуля?.. Я хочу знать, как мне суждено умереть, насколько долго будет длиться агония, какую боль мне предстоит вынести. Я хочу видеть того, кто закроет мне глаза, и мою жену, когда она получит весть о моей смерти. Интересно, почувствует ли она подступивший к горлу ком или хоть небольшую горечь в груди? Уронит ли она хотя бы одну слезинку, промолвит ли хоть слово сожаления, раскаяния? Дада, она скажет: «Бедняга!» – и, опустив глаза, замрет на несколько минут. Потом, должно быть, схватится обеими руками за голову, закроет веки, застонет, и на ее щеки одна за другой сбегут шесть слезинок. Она бросится на ближайший диван, будучи не в силах дышать, к ней подойдет любовник, что-то спросит, а она, таким знакомым движением руки, отодвинет его и еле слышно прохрипит: «Оставь меня в покое!»
Да-да, она придет в себя, вспомнит наши с ней ночи. Она вспомнит, наконец, как бились наши сердца, как мы буквально растворялись в объятиях друг друга и песнях любви, забывая обо всем на свете, разумеется, за исключением самого счастья. Ее снова коснется сладкое волнение того дня, когда мы, словно воробьи, обустраивали свое гнездышко; она припомнит радость рождения Хишама и захочет его снова увидеть. Она раскается, она вернется…
Но вернется ли теперь уже моя вдова сюда вместе с ним? Оформят ли они официально свои отношения? Сделает ли она его своим вторым мужем? Нет! Я не хочу, чтобы он спал в моей кровати, ел моей ложкой, пользовался вещами, оплаченными мною своей кровью, сердцем, мыслями! Никогда этому не бывать! Ни-ко-гда!
– Ха-ха! Даже если всему этому суждено случиться, то какое тебе-то, увальню, спокойно лежащему в могиле, будет до того дело?
– Бр-р-р. Какая мерзость!..


