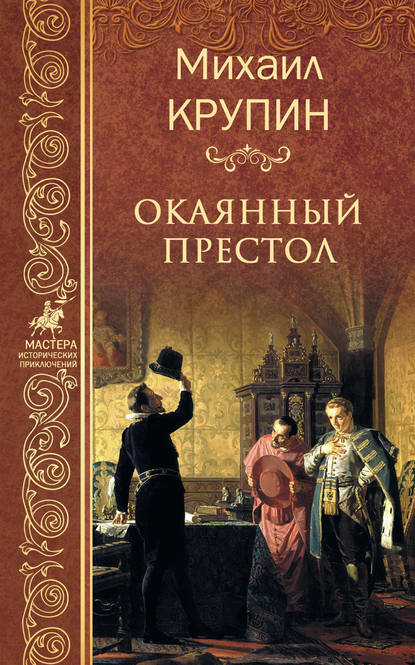
Полная версия:
Михаил Владимирович Крупин Окаянный престол
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Михаил Крупин
Окаянный престол
© Крупин М. В., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Знак информационной продукции 12+
…И я пошел к Ангелу и сказал: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед.
…И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.
Откровение Св. Иоанна Богослова (гл. 10)Первые радости
Суда с бойцами, орудиями и припасами мягко врезались в песчаный берег Оки. С плотов, стругов, задержанных отмелями, спрыгивали в теплую воду сильные люди без лат – незаметные бесчисленные труженики войны, легкие души, лишенные чванства крикливого чина или наследной славы ужасного пращура. Взваливая на закорки сложенные шатры, кади с порохом, баламутя коленями перед собою остаток реки, бедные спокойные воины спешили на сушу и, там освободившись от груза, в радости облегчения бежали за новой поклажей к судам.
Бояре и шляхтичи, благополучно преодолевшие водный рубеж, все вдруг, очнувшись от бездеятельного голубого пути, вспомнили о добрых своих голосах и нагайках, принялись с удовольствием торопить, путать жизнь переправы. Кони сразу пошли рвать удила, выворачивать на подводных камнях ноги, сгружаемые пушки – черпать дулами ил, а чугунные ядра – выпрыгивать из подмышек тягловых воинов…
– Шевелись, вражина сельская! – помогали криком латные ратники лапотным. – Огневое зелье юфтью закидывай, – вишь, с востока какое прет!
– Стороной протянет – слышь, ветер сухой! – уверяли лапотники латников, сами приглядываясь к злой синеве на краю земли, вслушиваясь в отдаленные облачные колесницы.
– Молча, черти, трудитесь – тогда пронесет, – обрывал иной мистик-боярин. – Эва, эва как озаряет! – и невольно показывал плеткой туда, где небесные жаркие плети без звука секли по кайме лесов.
На песчаном пригорке недалеко от воды, не внимая ни сутолоке вокруг, ни подбирающейся дальней синеве, стоял на коленях, молился один человек. Только что человек получил челобитный рулон от лица всей Москвы, из которого понял, что признан великим царем и путь в святую столицу открыт. Но не слова благодарности Господу составляли молитву человека-царя. Постаревшее будто на несколько долгих веков, сердце его едва жило во тьме беды и чуть теплило свой караульный лучик, надеющийся всегда неведомо на что, сиречь – достаточный, чтобы заставить всего человека не просто дрожать, а молиться.
В той грамоте, где Дмитрий Иоаннович, впервые Москвою не названный Гришкой, назначался царем, также упоминалось, что все Годуновы, долго не допускавшие Дмитрия на родословный престол, казнены тайком для показания полной покорности стольных бояр своему государю – для покоя его. И теперь государь-победитель стоял на коленях в песке, вразнобой осеняясь крестами, латынскими, слева направо, и русскими – наоборот. Этот человек слезно гневался на пробегающие Небеса. Как не смогли они предусмотреть?! Ведь не в силах сам он, простой смертный царь, воплотиться повсюду – во главе частных войск и в московской, упавшей от страха рассудком и совестью стране! Он только шел к центру земли с полками, упразднял старое и, даря праздные звания лучшим друзьям, созидал новое свое царство-государство. Мог ли он предугадать, не дойдя сотни верст до невнятной и в буйстве, и в обморочном замирании столицы, что – по-латынски сказать «механизмус» прежнего, казалось уже, пылью рассыпавшегося в тесных двориках московских царства, все его уцелевшие жернова, рычажки и корытца начнут вдруг судорожно действовать, выстраиваться победителю навстречу и в упоении древних своих заработавших частей содеют страх нежданный!..
Царь закрывал глаза. Сосредотачивая луч молитвы, забывал креститься – просил у Бога небольшого чуда – упразднить явь: чтобы открыл глаза – и боль осталась в темных заревах дремоты, скрылась вспять на крыльях вспугнутого сна.
Закадычный советник царя, Ян Бучинский, переминался вблизи, покручивая в руках недочитанный свиток, – даже Ян не был вхож в самое сердце Дмитрия и объяснял для себя его дрожь и кресты минутным отдыхом духа, заключавшим плеяду великих побед, купленных криком и нервами.
– Сутупов, Молчанов, скоты, – шептал в песок государь, – думные волки!.. Я погублю!.. Пол-Москвы на кол!
Тут же соображал: самое осенение крестное требует жертвы всех помыслов мести и гнева в пользу прощения и милости. Вздрагивал, отползал в сторону и начинал заново:
– Иисус, извини, я не то хотел, Вельзевул попутал! Вот клянусь всем твоим святым… Ни одной капли вражеской крови не вылью, христианскому телу царапины не нанесу! Только ты как-нибудь смилуйся, преобрази этот бред… Да поверь же ты в меня и воскреси Ксюшку!..
Бучинский, заметив, что грозные выхрипы друга сменяются жалобным шепотком, решил: слабость проходит, приходит время потешить царя, дочитав грамоту, – разбудить его дух для славы и суеты окончательно.
– «…Из роду попранных неверных владык, – смешливо-вкрадчиво продолжал Ян, – до этих пор жива осталась только лишь змеевка-чаровница Ксения – Арслан ее пожалел и ослабил петлю…»
– Ян, убью! – взвился в песке Дмитрий, на миг забыв свой уговор с Христом.
– Так здесь написано, я-то при чем? Сам читай! – Бучинский прочел что-то в пробрызнувших нечистым огнем очах Дмитрия, кинул в него челобитной, а сам быстро сбежал с холмика, закружился песчинкой в потоке коней и телег.
Царевич (так все же правильней именовать признанного, но еще во храме миром не помазанного государя) подобрал почту и сам проследил, не дыша, не слыша рваных биений в висках, до того места, где смолк Ян.
«Жива… живая!» – бесшумная молния отразила на миг в своем ясном излучистом русле поля, лес, стволы, иглы, листья – весь придвинувшийся горизонт. Миг утонул опять в воздушном полусвете, робком и весело-безвлажном в предощущении дождя.
Издали, с такой высотной дали, что эхо каждого удара, разрастаясь, успевало подавить звук нарождения следующего, по облачным ступеням понеслись вниз выроненные на небесной переправе архангельские стратегические ядра.
«Живая все-таки…» – Дмитрий не мог укротить колдовской дрожи тела. Каждая крапинка, капля-кровинка его, четверть часа назад старчески отяжелевшая, теперь бешено торжествовала: каждую Стрибогова стрела несла попутно всем, и каждая пела в лад своей стреле, внизывающейся бесконечно…
– Янек, подойди, не бойся, я отошел, – обнял царевич лучшего друга-драбанта. – Что ж ты, поросенок, всю грамоту враз не прочел?
– Так вязь там, если бы цивильный римский шрифт, – оправдывался, недоумевая, Ян. – Свои буквицы русские сами еле-еле по складам поют.
«… И ту ведунью замкнул Шерефединов в лучшей темнице дворца, – вникал Дмитрий в последние строки московского свитка, сидя в закрытой повозке (по юфти стукал уже редкий дождь). – Биет Арслашка, раб царский, челом твоей богоугодной особе – понеже Ксюшка та опаски собой не являет, то он и просит сию Годунову с живыми ее телесами оставить за ним… Аще сам Шерефединов уже оженен по обычаю християн, то перешлет чаровницу в Казыев улус в дар гарему отца…»
Дмитрий хотел напополам разорвать пергамент – телячья гладкая кожа скрипнула, не поддалась.
Водяной плотный ветер облек фуру, зашумело, защелкало, похолодало. Ветром нагаек, веселых проклятий взвыли окрест войска.
В Москве стояла страшная сушь. Пыльные вихри ходили прямо по головам толп, запрудивших улички обочь широкой стези от Чертольских ворот Белого города до Сретенской, сквозной, башни Китая. По заборам, деревьям, конькам и навесам построек шевелящийся люд продолжался и вдаль, и ввысь, подходя к самым куполам храмов и маковкам колоколен, – казалось, народ от жары припадает ко влаге огромных, синих и раззолоченных капель, жаждет впитать их, пока вышедшие из крестов капельки не поглотил солнцепек.
В действительности же народ стремился в высоту не ради утоленья куполами – чтобы не прозевать, но узрить сверху миг прихода нового царя. Змейка свободного пространства царского пути, отлично видимая с колоколен и кремлевских стен, окаймлялась пышными путивльскими стрельцами. Вторая, внутренняя линия защитной чешуи змеи играла панцирными брызгами и трепетала ястребиным пухом исследуемых русским ветром польских лат – конники Яна Запорского стояли, развернув коней по ожиданию царя, – беспокойно над войлочным «варварским» ульем крутились их полуантичные шлемы; из-под самой макушки собора пытливый, оказавшийся выше всех смельчак различал, как иной гусар, не заряжая пистолю, брал на мушку его, смельчака, – под курком что-то кричал, улыбался совсем неразборчиво, и тогда озорник сам подбрасывал мурманку выше креста и гусару в ответ хохотал от восторга и легкого страха.
Отрепьев скакал в тесном строю лучших князей Руси, загодя выехавших царевичу навстречу. По мнению польских советников, при таком порядке въезда достигались две важные выгоды: народ, во-первых, сразу видел единство нового властителя с людьми высшего русского яруса; во-вторых, блещущее из-под посеребренных бород изумрудом и яхонтом общество охраняло царевича от непредвиденного выстрела из толпы надежнее всякой брони, покуситель теперь рисковал уложить, вместо наследника престола, своего же вдохновителя.
Колокольные, устные приветствия ниц падающей Москвы слились в один медногортанный вечный крик. Отрепьев торопил, невольно теребя шпорами, коня. Хвалы и пожелания, радостно, рвано овевая, неслись мимо.
– …здоровья!
– Солнышко!
– …чудесным образом…
– …на всех путях!
Отвыкшие от шибкой ходы старшие князья краснели, тужась не погаснуть в седлах, и, отставая, разрежали строй. Аргамак государя, злобно всхрапывая, уже наступал на подковы коням передового звена польской охраны (всадники оборачивались, набавляли рыси) – когда впереди, над белесой, блеснувшей, как пыльный клинок, рекой явился, точно крупная настольная игрушка, ряд древних изящных бойниц, а еще ближе выгнулся бахтерцем белого камня – возведенный радением царя Бориса мост, тот самый, по которому въезжал когда-то в Кремль, спеша к невесте, бедный Гартик Ганс, принц датский. Мост, подступы к Кремлю теперь воины стерегли не в пример крепче, чем при въезде датского принца три года назад, но как тогда – перед вторжением на мост кота – вся мощь стражи сделалась бессильна перед умыслом природы.
Ужасный пылевой столб вышел из ворот Неглинской башни, ухарски перекрутился, вздохнул, потемнел и как разумный пошел по мосту, втиснувшись между зубцами. Всадники передового звена, прячась за конские шеи, судорожно укоротили поводья. Трубач успел поднести к губам сурну, в намерении придержать сигналом напиравшее с тыла великое шествие, но вместо воздуха он собрал в грудь уже только песок и разъяренно закашлял. Отрепьев, чтобы не быть в сумятице сдавленным в среде еще не изученных хитрых бояр, проскакал вперед через разваливающееся звено гусар и сам очутился в буране.
В серой бешеной пыли аргамак закричал, заплел ноги, руки Отрепьева плавали «фертом», вырывая из конских зубов удила, но конь надеялся самостоятельно одолеть душное облако – прыгнул вперед, вспять, вбок – царевич боком ударился в каменный зуб моста и потерял в пыли сознание и чувство.
Но скоро ему померещился темный лес на берегу Монзы; выставив жалобно руки, он продирался куда-то следом за матерью и за отцом, но мокрые ветви орешника все сильней били по лицу, холодные брызги слепили – и мать, и живой отец уходили сквозь рощу все дальше, не слыша сыновьего крика… Лес сметался глуше, вдруг всем станом покачнулся, проплыл, и на место его сумрачного полузабытья явился синий жар крепких небес, к солнцу вели острия-шатры башен кремлевских, соборные кресты…
Но мокрые кусты еще хлестали и брызгались, Отрепьев заморгал и приподнялся на локтях, на чьих-то подсобляющих ладонях. Духовный старец (где ж виданный прежде?) в ярком сакосе и митре стоял пред ним. Старец макнул широкую бахромчатую кисть в горшок и еще раз, прямо в глаз Отрепьеву, метнул водой.
В чистых дымках кадил за старцем виделся прекрасный, слабо выпевающий молебен строй. Увидев дальше круглый Лобный холм и сказку вечно расцветающих шатров храма Василия, цесаревич вполне внял сему месту и вспомнил, что сам обязал всю эту высшую церковь встретить и возвеличить его.
Архиепископ Арсений (Отрепьев припомнил и старца) опустил свою кисть и принял из рук ближнего священника огромную икону. Царевич, оттолкнув поддерживающих, снова присел на колени, немного утерся и приник губами к теплому холсту, к оливковой руке Благого.
Сзади ударили литавры, взыграли боевые сурны, польский марш атаковал псалмы медлительной Московии – это заметили гусары, что царь их снова бодр и резв – воплощали ликованье в звуки. Лица поющих русских сильней вытянулись – раскрываясь ртами, напряглись полосами румянца, но одолеть хоровым распевом трели задиры-Литвы не могли. Иные иереи потрясенно уже озирали новоповелителя: ну – пускает он во время сна великого богослужения мирскую свистопляску иноземцев!.. Отрепьев сам почуял скорбь святителей, не ускользнуло от него и то, что лик предвечный поднял на иконе, предостерегая, руку, хоть за него и так архиепископ подле лика поет уже осмысленно и укоряюще.
– Янек, оставь, я оглохну! – выкрикнул царь, но Бучинский, размахивающий самозабвенно саблей перед музыкантами, кроме литавр и труб, не слышал пока ничего.
Только Отрепьев подумал подняться с колен, чьи-то горячие сухие руки кинулись помогать, снова освоили царские локти. Отрепьев, встав, оглянулся – старинное, истово-испуганное личико дрожало перед ним, за ним.
– Не помню, хто?
– Бельский азм есмь, Богдан, – пропел старик-боярин. – Давесь-то в шатре, как мя предстали, ты ж воспомнил, батюшка, мою брадишку. Я ж Бельский, твой няня, – с глупых лет Митеньку в зыбке качал, сица впал в опалу Годунову.
Отрепьев вспомнил давешнее подмосковное знакомство с видными боярами – промельки вопросов… Плутует Бельский или впрямь решил, что повстречался с возмужавшим пасынком? Глазами поискал вблизи путивльских друзей – как их мнение? Мосальский и Шерефединов, самые ближние, понятливо, живо отозвались. Василий Мосальский, вмиг прозрев в прищур очей царевича, быстро сам сыграл зрачками: мол, старик – паршивец, все как следует. Шерефединов же, отведавший недавно государевой нагайки, не смел поднять трепещущих ресниц, – только сорвав с головы пышный малахай, спешно стал обметать ураганную пыль с одеяния Дмитрия. Как бы опамятавшись, поскидав шапки, за ним последовали Бельский и Мосальский; стали совать, протискивать свои собольи, лисьи колпаки иные. Белое платье царевича покрылось черными, втертыми в шелк полосами, прорехи, чуть намеченные бурей, поползли по швам.
Усилиями государства был оставлен наконец молебен, приглушена немного полковая музыка, государь прошел переодеться в Кремль. Взяв на угол бороды, примкнув к плечам хоругви, архиереи двинулись вослед – дослуживать в Успенском и Архангельском соборах. Бучинский с польской свитой сквозь Фроловские ворота проскакал вперед – принять по описанию палаты.
Завидев из-за ратной цепи удаляющееся торжество, народ московский застонал, налег на длинные топоры воинов – он, оказалось, ждал все к себе царского слова.
– Чертища, как я в сем виде на Лобный помост взойду? – прикрывался полой чистой епанчи князя Воротынского Отрепьев, хотя ему тоже не терпелось провозгласить с возвышенья подбег к Москве страшного счастья, надвинувшееся половодье всяких благ. – Ладно уж, Бельский, пока ты – на помост, расскажи людям, как от Бориса меня в зыбке прятал… А ты, русский боярин, – дотянулся Отрепьев, стиснул пальцами круглую мышцу под воротом песцового Шерефединова, – ты веди – платья, палаты показывай… да, слышь, один теремок не забудь, – добавил полухрипом, полушепотом.
– Я помню, помню, бачка-государь, – присев, заламывая на бок шею – будто с боли, уверял шепотом же Шерефединов – старался морщить как-нибудь по-русски, жалостно, широкое, как дутое изнутри лицо. – Я помню… там… за Грановитой юртой сразу… малый деревянный крыша… большой сердитый кошка смотрит в окно…
Ксюша Годунова не примечала уже смены суток в общей тоске продвижения вечности. Запертая с постельничей девкой Сабуровой в разграбленном теремке, она лежала на жесткой скамье вверх лицом – без слезы, слова или надежды ужиться с обортнем-миром. Не слыша укоризн боярышни-служанки, не понимая лакомого духа подносимых блюд, смотрела то на сумеречный потолок в крюках оборванных паникадил, то на смеющийся черный рисунок оконной решетки. Когда узорный оскал чугуна, обагряясь, тускнел, потом быстро тонул во мгле, с летних небес два серебряных лучика никли к низложенной пленной царевне, точно вдали затепливали херувимы две свечи в память Феди и мамы, или родные несчастные сами, всем светом своим, окрепшим и умудренным в посмертной отраде, своей Ксюше уже подавали особый пресветлый знак. Этот знак, отправляясь из горних пространств полнозвучным и радостным, достигнув Земли, оборачивался для внимающего щемящей страшной печалью, ибо сюда являлся истощенным, объятым и оглушенным пустынною тьмой. Неприкаянным и бессловесным.
Земная русская вечность делала новый виток – звездочки-знаки истаивали в водянистом рассвете. Девка Сабурова, проснувшись, нависала над Ксюшей и, вздохнув тяжко, будто сама напролет не спала, опускала колени на коврик, начинала опрятно постукивать о половицу лбом – открывала молитву, а с ней и темничные новые сутки. После, припав к створке низенькой двери, долго бранилась с наружной охраной, визжал засов, гремели умные басы ландскнехтов, и вновь Сабурова легко касалась царевниных прохладных губ теплыми большими ложками, вмиг вызывающими – сквозь небытия – своими ароматами тонкую прелесть той жизни – окруженной дивным теплом трепета жизней родных, еще вчера вкушавших за одним столом дары Господни…
Однажды, когда царевна перестала уж различать всякую силу дымков над подносимыми ложками, вошедший в светлицу-камору дворянин Шерефединов, склонившись, разжал ей кинжальными ножнами рот и прилежно стал полнить пленницу разною разностью. Жидкие яства он сразу, только радуясь кашлю царевны, отправлял в глубину под гортань, что же потверже – короткими пальцами толкал под язык, рассылал вокруг десен, держал перед зубами, – и так кое-чем накормил, обеспечив опять земное бесконечное существование.
На другой день невольница впервые приподнялась на лавке и, чтобы избежать ужасного насилия кормлением, немного поела сама и впервые чуть слышно поплакала. Шерефединов, в меру рассудка наблюдавший подопечную, на радостях принес в каморку пышного иранского кота, схваченного вестовыми Дмитрия на дворцовом темном чердаке, где тот с мая месяца скрывался от восставшего народа.
Заплакав человечьим голосом, зверь обнял бедную нашедшуюся госпожу, и был тут же удален, не сделавший увеселения, укрепивший ту же скорбь. Ксюша, страшась приказывать Шерефединову и не умея попросить убийцу родных, чтоб оставил ей перса, лишь завела пустынные глаза к разгромленному своду и так оставила до нового утра.
С тех пор как пленница начала изредка принимать яства, Шерефединов зачастил в ее темницу. Нередко он раздевал Ксюшу, – мерно урча, странствовал шероховатой ладонью по белым изгибам, притихшим движимым холмам, раздвигал ноги невольницы… Но каждый раз, вдруг заругавшись по-татарски с подсвистом, сдвигал снова ноги и одевал: берег, хотел отцу на Рамазан сделать хороший подарок.
Однородная вечность летела – только в чугунных узорах окна дольше стыл белый свет, меньше задерживалась тьма. Девка Сабурова, по вопросам хозяйства имевшая доступ на двор, приносила оттуда ненужные Ксении новости. Самозванец в Серпухове… Стали отстраивать боярские подклети, сметенные майским народом, встречавшим казаков Корелы и Гаврилы Пушкина… Царевич под Коломной, цены в Москве вновь вздымаются… Дмитрий уже под Москвой.
В день въезда самодержца в город Сабурова уговорила немца охранения взять ее на кремлевскую стену с собой – посмотреть с высоты окаянного Дмитрия-Гришку. Обратно, в Ксюшину темницу, влетела разгоряченная, захватанная немцами, стрельцами.
– Ой, не поспела, не видала ничего! Народу – луг! Красна-площадь – что цветной капусты поле! На Лобном месте твой, Аксиньюшка, дядька стоит – покойной мамы-то брат двоеродный Бельский. Людям кричит – мол, он царевича баюкал на груди, сейчас узнал его мхновенно – обману, значит, нет и наплюйте на того, кто вам брехал про беглого монаха…
– Монаха…
Ксения, качнувшись на русых неплетеных волнах, села на лавочке. Далекий образ инока, восторженно упавшего перед ее возком, снова ясно воскресил простое утро детства – словно свет хорошего беспечного лица скользнул вблизи… Ах память, странная, случайная, что ты морочишь сердце? Из сотен лиц ты выбираешь самые далекие, крылатые, легко и безвозвратно пропархавшие, и жить велишь надеждой и неверием во встречу. Вот скажи, как тот, кто без следа исчез в безветренные времена, может явиться в гости через семь затворов в страшную годину? Не чует он, что делается с Ксюшей, и не придет из-за семи своих святых лесов, размахивая, как мечом, крестом, вращая булавой кадило, освободить позабытую… Но нет, – Ксения жестко уперла в кулачки легонький подбородок, – когда царевны погибают, инокам же сообщается тоже о них, так что не может он не знать… хотя бы не подумать… И оружием его, моей защитой, конечно, станет лишь неловкая молитва – от отшельничьей землянки в монастырской роще, вблизи источника святой воды…
– Ой, святы-батюшки-угодники, чур меня, чур! – метнулась от окна Сабурова, – ой, с нами крестная сила! – по двору прокатился чудовищный топот и бранный лязг. Ксения, привстав на цыпочках, из-за накосника Сабуровой увидела только – один воин темничной стражи, сорвавшись с крыльца, протянулся на аспидных плитах, сверху на стражника плашмя упал его топор, и пока не было известно никому – насколько воин поврежден, он сам разумно замер и смотрел на мир из-под рифленой плоскости секиры.
В тот же короткий миг дверь в Ксюшину каморку распахнулась, тускло блеснув, парчовый занавес отдернулся, и перед Ксенией (Сабурова давно вползла под лавку) затрепетал так смело, явленно один из ее снов, что на какое-то время царевна поверила необъяснимой яви.
На пороге стоял тот самый, далекий, канувший из патриаршего причта, монах, Ксения разом узнала его: все то же безусое, хоть похудевшее лицо, пресветлые кудри, тот же прячется прыщик под носом. Все его платье полосато, серо от песка и пыли, надорвано в иных местах, на поясе кривой клинок – как же ты, монах Ослябя, прорубился? За дверью – всюду – тяжкие и спешные шаги.
– Слушай, беги! – крикнула Ксения, впивая радостного схимника-заступника глазами. – Беги, теперь мне немного осталось, некого переживать… Спеши, ведь тебя схватят: здесь близко ходит сейчас это чудо, Отрепьев… Я вспоминать теперь буду, как ты приходил, время побежит быстро.
Инок шагнул к ней, качнулся круглый, незнаемый лик у него на груди, на червленой цепи.
– Государь-батячка, я карашо кармил! – вдруг сбоку, из-за плеча инока выглянул Шерефединов. – Еще вчера, государь, говорила как умная!
– Кто… государь? – слетело то ли с губ, может, с ресниц невольницы.
– Ну да, – разулыбался избавитель. – Проси теперь, краса, что любишь, и люби как хошь, я – государь!
– Дмитрий Иванович, дурында, наклоняйся в ноги Дмитрию Ивановичу! – защебетали, засвистали отовсюду стайки голосов – смешливых, истовых, дрожащих.
– Неправда. Это все во сне, – сказала слабо царевна. – У меня сны такие, там хорошие вдруг превращаются в страшных…
И ловко закрыла руками глаза – на миг очнуться опять рядом со сказочным схимником, вошедшим и оттолкнувшим орду самозваных губителей царской земли.
Петр Басманов, принявший Стрелецкий приказ под начало, на время сделался также главой государева сыска. Отдыхая от стройных и величавых доносов, боярин все возвращался к одной думке-закорюке, необходимости установить: как это горстке донских казаков удалось с хода занять стольный, снабженный белой и красной стенами с задобренной сытой охраной, огромнейший город? И не сокрылось ли за показною лихостью казачьего налета что-либо из того, что теперь следует Басманову по должности подробно знать? А уж коли не было боярской каверзы здесь, смеха лицедейства, – и совсем хорошо: Петр Федорович, с радостью учения и дрожью ревности, изучит все тонкости славного штурма – оно ему надо, первому воеводе всех оружных сил Руси.
Басманов отправил рынд быстро выяснить – где на Москве стоят донцы, бить челом, звать с почтением в гости их атаманов.
Но рынды, быстро воротившись, доложили: кроме стоянки казаков из личной свиты Дмитрия, к смелым делам передового отряда Корелы не касательных, нет донцов-героев никаких. Басманов нерадивых рынд отдал под розги и, приказав ополоснуть водой, заново бросил на поиски.

