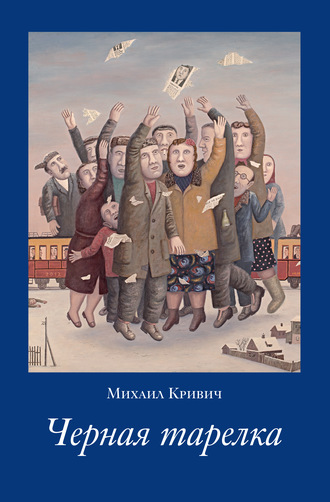
Михаил Кривич
Черная тарелка
Готов признаться, что мог что-то пропустить, поскольку непрерывно бегал на кухню. Смешно, как за короткий срок изменилось мое место в партии, моя роль в ее жизни. Начинал советником аж самого председателя, спичрайтером начинал, привел Клаву в ее ряды, а стал настоящим кухонным мужиком. Но роли этой я нисколько не стыжусь. Человек должен честно делать свое дело на любом месте. Я бы добавил: куда его поставит партия.
Так вот, я убегал за кофе, минералкой и бутербродами, возвращался с подносом, обходил собравшихся и снова возвращался на кухню, но и оттуда слышал, что говорят в гостиной, о чем спорят, к чему склоняются. Поэтому мое свидетельство – одно из самых точных и объективных.
Итак, Клава вскрыла конверт и, нахмурившись, долго изучала несколько листков – распечатанных на принтере и рукописных. Собравшиеся молча ждали.
Наконец Клава отложила листки и негромко произнесла:
– Все, господа. Они у нас в руках. Со всеми потрохами. Вопрос в другом – нужно ли нам это?
Далее Клава дала участникам бдения четкие и исчерпывающие объяснения. Конверт, из-за которого нашего Серегу Сонокотова едва не забили до смерти, был от цюрихского затворника Семена Захаровича. А на нескольких уже изрядно помятых листках содержался компромат на власть имущих, по словам Клавы, смертный им приговор. Причем, по ее же словам, высшая мера распространялась на всех наших недругов, вплоть до самых высоких – тех, чьи имена и должности не называются, но обозначаются указующим жестом в сторону хрустальной люстры. Можете сами убедиться – она пустила бумажки по рукам. Вот такие-то дела, господа. Что делаем дальше? Высказывайтесь.
Собственно говоря, дальше все историческое бдение и было посвящено обсуждению этого вопроса – что делать дальше. Мнения резко разделились: от «не высовываться» до «это есть наш последний и решительный бой». Справедливости ради надо сказать, что на бое до полной победы настаивали только битый Сережа, за которого по пословице дают двух небитых, да Толя Горский. Геннадий Никодимович занял более взвешенную позицию: дать им понять, какими сведениями мы располагаем, послушать, что ответят, а далее идти на некоторые уступки, ибо, сами знаете, политика есть искусство компромисса. Однако большинство участников высказалось в духе «не трожь говно, чтоб не воняло»: спрятать подальше кляузу Семена Захаровича, авось когда-нибудь пригодится, затаиться, по всем вопросам солидарно голосовать вместе с президентской ратью, а тебе, дорогая наша Клавочка, надо сохранить себя для будущего, для нас, для следующих выборов, которые не за горами, уйти с поганого поста, как они требуют, и спокойненько работать в экологическом комитете, вспомни, ты же в Палату шла ради этого…
За все бдение Клава так ни разу и не взяла слова. Только посверкивала глазами, когда говорились из ряда вон выходящие глупости, и задавала ехидные вопросы пораженцам. И никакой резолюции не было принято, что бы ни нафантазировал на эту тему наш замечательный актер, а в последствии и государственный деятель.
Где-то после четырех утра Клава сладко зевнула и закрыла бдения:
– В общем, ребята, ясно, что ничего не ясно. Давайте кончать, еще наговоримся. Я пошла спать.
* * *
Когда Клава ровно в десять утра поднялась со своего места в президиуме и поправила микрофон, никто, я уверен, никто и не помышлял, что станет свидетелем исторического события. Боюсь, что меня обвинят в прозорливости год спустя после него – про такое говорят «хорошая мысля приходит опосля», – но должен сказать, что смутное ощущение чего-то необычного у меня все же было. И вот почему. Впервые за многие месяцы своей работы в Палате Клава попросила меня сопровождать ее, а я подумал: не выспалась, неважно себя чувствует, вот и решила держать меня под боком – мало ли что…
Позволю себе еще одну крамольную мысль: до самой последней минуты и сама Клава не знала, что скажет коллегам-парламентариям. Иначе у нее был бы с собой текст выступления, или его тезисы, или хоть какие-то заметки. Ничего не было. Господи, если бы мне посчастливилось написать эту речь! Написать и умереть.
– Уважаемые коллеги, позвольте открыть пленарное заседание Палаты, – поправив микрофон, будничным голосом начала Клава. – Сегодня у нас на повестке дня три вопроса… Впрочем, повестка вам роздана… – Последовала небольшая пауза, и затем Клава звонко произнесла, почти выкрикнула: – Позвольте несколько минут вне повестки. Хорошо?
В зале еще не было и половины депутатов. Подтягивались и рассаживались по местам опоздавшие. Мимо президиума прошел, что-то ворча себе под нос, Владлен Красноперский, видимо, был не в духе. Маргарита Куцая громко наставляла своих собравшихся в кучку невест. Похоже, никого не заинтересовало, что скажет им Клава вне повестки дня. Но когда она заговорила, зал мгновенно затих.
– Два дня назад меня пригласили сами знаете куда и предложили немедленно сложить свои полномочия. Таким образом, сегодня нам с вами все равно пришлось бы повестку ломать. Мы проработали вместе большой срок. У нас случались серьезные разногласия, мы спорили, а иногда даже ссорились, но бывали дни согласованной и успешной законотворческой работы на благо страны. Поэтому буду честна перед вами. В пятницу вечером я приняла решение покинуть высокий пост, на который вы меня избрали.
По залу пробежал гул изумления.
– Должна разочаровать тех, для кого мой уход наверняка стал бы хорошей новостью. Я это решение изменила и остаюсь, нравится это кому-то или не нравится. В те минуты, когда мне предъявляли ультиматум – вы понимаете, о ком я говорю, – в те самые минуты на моего первого помощника было совершено покушение. Я знаю, кто его заказал, и вы тоже знаете. Решение пришло ко мне в Институте Склифоссовского у постели до полусмерти избитого товарища. Повторяю, я остаюсь и принимаю вызов. Если вы, уважаемые коллеги, не возражаете, я расскажу вам, чем я так насолила верхам, в чем причина их беспардонных действий, куда они ведут страну и почему. Словом, я продемонстрирую вам, откуда ноги растут.
Места, откуда растут ноги, Клава демонстрировала недолго – вся речь длилась не более пятнадцати минут, – но убедительно. Она зачитала материалы от Семена Захаровича, коротко их прокомментировала и деловито подвела итоги. Собственно говоря, информационную часть Клавиного выступления не надо даже пересказывать. Найти ее в открытых источниках не представляет ни малейшего труда. А вот концовку я позволю себе привести полностью. Дело в том, что видеозапись не сохранилась, а стенограмма обрывается перед последним Клавиным пассажем. То ли стенографистка с перепугу перестала водить карандашом по бумаге, то ли запись просто сперли. Зачем? Это становится очевидным из концовки речи, которую я умудрился записать дословно, хотя руки тряслись от страха за свою подругу.
– Вот теперь вы, уважаемые коллеги, знаете, из-за чего у нас до полусмерти избивают человека среди бела дня на глазах прохожих и милиции. Простите меня за то, что я обременила вас столь опасными сведениями. Меньше знаешь – крепче спишь. Но боюсь, крепко спать нам с вами долго не придется. Впрочем, я не думаю, что подлая и трусливая власть рискнет оказать физическое воздействие на народных избранников. Хотя кто знает… В общем, так. У каждого из вас остается выбор. Можно выкинуть из головы все, что я вам сейчас рассказала, а можно, вооружившись опасным знанием, подняться против тех, кто оптом и в розницу торгует Россией. Лично я выбираю второй путь, путь борьбы. И объявляю, что инициирую импичмент президенту.
* * *
Что было дальше, хорошо известно даже тем, кто удален от политики на тысячи световых лет. Поэтому ограничусь хроникальным изложением событий тех месяцев.
Палата большинством в пять голосов поддерживает сумасшедшую инициативу Клавы. Как это ни удивительно, за импичмент голосуют не только эросовцы, но и многие вышедшие из повиновения пропрезидентцы, маргиналы и даже невесты. Красноперский и Куцая предают их анафеме.
Пресса густо обмазывает Клаву дегтем. На первом канале проходит сюжет из ее супермаркета: крикливые дамы с фиолетовыми халами на голове рассказывают, что она каждый день выносила из своей секции продукты, а на работе ее нередко видели выпившей, как-то раз даже застукали в подсобке за распитием с разнорабочими, с которыми она, говорят, и не такое вытворяла. «Назавтра» рисует генеалогическое древо Толмачевых и где-то в его ветвях раскапывает то ли дедушку, то ли прадедушку не то Гуревича, не то Эпштейна. «Столичный ленинец» публикует полный список Клавиных любовников, в нем Горский, Сонокотов, Последнев, сам Семен Захарович и еще добрый десяток звучных имен. Меня в этом списке нет. «Русский курьер» находит очевидцев самоподжога в целях переселения на казенную квартиру. И так далее.
Своим порядком идут тягомотные многомесячные процедуры в Сенате и Высших судах страны. Все голосовавшие за импичмент парламентарии получают предложение: за семизначную сумму свой голос отозвать. Десяток иуд его принимает. Но несколько десятков из числа голосовавших против переходят на нашу сторону.
Спикер Палаты заявляет о своей отставке. Его место по регламенту занимает Клава.
Наружка облепляет ее и всех наших, как мухи липкую ленту, преследует открыто, внаглую. Принимаем решение: Клава, Последнев и Сонокотов поселяются в своих кабинетах и из Палаты не выходят ни под каким видом.
На «Мосфильме» дотла выгорает павильон, где снимается Толя Горский. Продюсоры, которые до сих пор за него дрались, рвут с ним договора.
Импичмент объявлен. Президент отказывается сложить свои полномочия. В Москве и губернских центрах ЭРОС выводит на улицы своих сторонников, к нам присоединяются коммуняки, часть маргиналов и невесты во главе с Маргаритой Куцей, то ли искренне, то ли по расчету переметнувшейся на нашу сторону. Национал-автомобилисты выезжают на улицы, за гудками «жигулей» всех моделей и возрастов не слышна человеческая речь. Из супермаркетов исчезают крупы, спички и соль.
Военные заявляют о своем нейтралитете.
Владлен Красноперский на вертолете добирается до Моршанска, подымает полностью укомплектованную Моршанскую дивизию ВДВ и с развернутыми знаменами – маргиналов-охлократов и полковыми – ведет ее на Москву.
Дивизия походным маршем проходит Воронеж, Липецк, Тулу, Каширу, Домодедово. Она уже на МКАДе. Выбрасывая облака сизого дыма, передовые машины втягиваются в Ленинский проспект. Минуют площадь Гагарина, идут по Якиманке. Они уже у недавно восстановленного, сверкающего свежей импортной краской Манежа…
* * *
Все эти месяцы, недели, дни, часы, минуты я был рядом с Клавой. А когда было принято решение из Палаты не выходить, стал Клавиным камердинером, поваром, горничной, единственным связующим звеном с городской квартирой. Я следил за тем, чтобы Клава вовремя поела, чтобы у нее всегда была зубная паста и необходимые ей кремы для лица; не доверяя буфету, сам готовил для нее кофе и заваривал крепкий чай, ездил домой за ее бельем и платьями. Мою машину наружка, естественно, знала, за мной всегда следовал «хвост», а для меня было хорошим развлечением уйти от него по столичным улочкам, переулкам и проходным дворам. Впрочем, удавалось это не часто, но меня ни разу не задерживали. Видимо, Клавины лифчики их все-таки не интересовали. До этого дело не дошло.
И вот настали последние минуты. Мы втроем – Клава, Сережа и я – сидим в ее кабинете у телевизора. На экране Боровицкая площадь, с Каменного моста съезжает головной БТР дивизии. Мы знаем, что в нем сидит Красноперский. Камеры показывают ограду Александровского сада, Библиотеку… Не отрывая глаз от экрана, Клава по телефону дает отрывистые команды Толе Горскому, который организует оборону Палаты. Мы знаем, что двери крепко заперты, что депутаты под водительством Гены Последнева подперли их мешками с песком, но что это против танков…
Голова колонны уже миновала Манеж и поравнялась с «Националем». Камера мельком показывает Исторический музей и Иверскую. И снова – БТРы с танками. Мы молчим.
– Диктатура этого педераста. Вот к чему мы пришли, – тусклым голосом говорит Сергей. – И ради этого мы… – Он в полной прострации.
Я же думаю о том, что надо собрать для Клавы пакет с бельем и средствами гигиены. Сейчас сюда ворвутся и нас арестуют. И это, судя по риторике Красноперского, отнюдь не худшее, что нас ждет. Могут и сразу шлепнуть. Нет человека – нет проблем. И решаю: останусь с Клавой до конца.
Внезапно она рывком подымается из кресла и громко говорит неизвестно кому:
– Я выйду к ним.
– Никуда не пойдешь! Я тебе запрещаю! – ору я, будто могу ей что-то запретить, и повисаю на ней, вцепившись обеими руками в платье.
Клава резко вырывается. Любимое светлое платье с треском рвется от подмышек до подола. Она стоит передо мной расхристанная – видно белье, голые ноги, живот. По щекам текут слезы.
И тут я четко осознаю, что Клава должна выйти навстречу дивизии. Это нужно прежде всего ей. Без этого она не сможет дальше жить – ни на свободе, ни в тюремной камере. И еще я понимаю, что судьба дает мне шанс тоже совершить исторический поступок, пусть о нем никто никогда не узнает. И делаю то, что должен сделать.
Я хватаю стоящий в углу кабинета российский флаг, отрываю полотнище от древка и оборачиваю растерянную Клаву триколором. Наверное, ни одному кутюрье ни до ни после не приводилось, не приведется за полминуты создать такой донельзя простенький, но совершенный фасончик для Жанны д’Арк. Я его создал.
Взявшись за руки, мы пробежали по длинным коридорам Палаты, по переходам и лестницам и оказались в вестибюле. Несколько человек охраны с «калашами» и «макарами» в руках стояли перед дверью. Гена, совсем-совсем непохожий на Наполеона, но твердый и решительный, тоже был здесь.
– Откройте дверь! – приказала Клава.
Охранники переглянулись с Последневым, но не посмели ослушаться – быстро оттащили мешки, отключили сигнализацию, отперли замки.
Я обнял Клаву за плечи, и мы подошли к двери. Мне потребовалось изрядное усилие, чтобы ее распахнуть. На пороге я убрал руку с Клавиных плеч и попытался выйти первым, чтобы заслонить ее от шальной пули или прицельного снайперского выстрела. Но она отстранила меня и первой шагнула на площадь.
Прямо перед нами, там, где обычно паркуются «мерсы», БМВ и «ауди» депутатов, за бетонными надолбами стояли, развернувшись лицом к Палате, пыльные, обляпанные глиной боевые машины – три-четыре десятка танков, БТРов и БМП. На Клаву были нацелены крупнокалиберные пушки с пулеметами и еще несколько сот настороженных, но любопытных глаз.
Головную машину, где находился Красноперский, я отыскал вдалеке, на углу Тверской. Будущий диктатор не хотел рисковать своей драгоценной жизнью.
Стояла гнетущая тишина, которую внезапно нарушил бой курантов. Все молча выслушали, как часы отбили двенадцать раз, и ровно в полдень Клава сделала еще один шаг вперед, подняла руку и сказала:
– Ребята, я рада, что вы пришли…
А ребята, сотни пацанов в танковых шлемах, в замызганных комбинезонах с солдатскими и офицерскими полевыми погонами, смотрели – я видел – не на нее, хотя и в ее сторону. Они смотрели на нижнюю часть Клавиного тела. Я тоже посмотрел и с ужасом увидел, что обернутый вокруг ее бедер триколор задрался и слегка распахнулся, открывая ее длинные полные ноги и белые трусики.
Клава не зала этого. Она выдержала паузу и, не опуская руки, продолжила:
– Я верю вам, верю в силу и мудрость молодой России и потому счастлива, что именно вы первыми узнаете о моем решении. Именем избравшего меня народа я прекращаю этот бардак. Я приостанавливаю действие Конституции и временно беру на себя руководство страной. Как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России я приказываю вам вернуться в казармы. Еще раз спасибо, ребята.
Моршанская дивизия ВДВ взревела от восторга.
Этот момент и запечатлел безымянный фотограф, чей снимок обошел первые полосы всех газет мира. На фоне стены воздетых солдатских рук Клава, тоже с поднятой рукой, в трехцветном платьице, из-под которого трогательно выглядывают девчоночьи трусы.
И только я один знаю, откуда взялось это платьице и почему оно не прикрывает исподнее.
* * *
Год спустя. Субботний вечер. Сижу у себя и смотрю новости. На экране Клава в своем кремлевском кабинете. Она подымается и идет навстречу высокому дородному мужчине в хорошо сидящем костюме. «Сегодня утром временный руководитель России Клавдия Николаевна Толмачева, – приятным голосом поясняет диктор, – приняла в Кремле только что назначенного министром культуры известного российского актера Анатолия Григорьевича Горского». Крепкое рукопожатие, Толик почтительно склоняет голову. Садятся за столик с гнутыми бронзовыми ножками. «На встрече были обсуждены перспективы развития отечественного кинематографа». Пошли вести с полей. Закуриваю, перещелкиваю на другой канал. Здесь уже щебечет женский голосок: «…Николаевна Толмачева дала указание министру обороны усилить боеготовность частей и подразделений». Серега Сонокотов, сбривший бороду и сменивший линялые джинсы на генеральский мундир, согласно кивает Клаве, подтверждая, что боеготовность должна быть усилена и будет усилена… Как нынче говорят, легко!
Все наши пристроены. Вот и Гена Последнев недавно укатил в Нью-Йорк, чтобы стать постоянным представителем нашей великой державы в ООН. Каково ему там будет с его-то дикцией. Buy a bundle of spades… Купи кипу пик… Только я не у дел. Не у государственных дел. Впрочем, меня вполне устраивает моя старая работа в редакции. У Клавы я ничего не просил, а она, умница, с присущим ей тактом никаких предложений не делала. Могу себе представить: приняла в своем кремлевском кабинете… Нет уж, увольте. Жалею только об одном – редко живьем ее вижу. Все больше по телевизору. Клава окончательно прибрала к рукам общенациональные каналы и не слезает с экрана. Сами видите. Дециметровые каналы пока позволяют себе некоторые вольности, временный руководитель России появляется на них значительно реже, да еще они порой осмеливаются ерничать, хотя при том и знают меру. Вот совсем недавно прозрачно намекали, что сильное влияние на государственную политику оказывает некий фаворит, ну как бы вроде графа Орлова или там Потемкина. При этом описывают человека, несколько смахивающего на меня. Сам не видел, но говорят, что один раз даже фото показали. Это я-то граф! С моей-то рожей!
Пока не увидишь ее разве что на «Физкультуре» и «Искусстве»… Черта лысого! Вот пожалуйста. На культур-шмультур известный скульптор Александр Тягаль демонстрирует бронзовый бюст временного руководителя России. Отлил, тараторит дикторша, буквально три дня назад. Модненькое словечко: буквально минуту назад, буквально неделю назад, буквально семнадцать лет назад… Смурной носатый мужик, небритый, с серьгой в ухе, похотливо (или мне мерещится, что похотливо) оглаживает бюст бюста. Пигмалион хренов… Гладь на здоровье свою Галатею. Хоть здесь, хоть там. Сходства-то с Клавой ни малейшего…
Еще раз щелкаю. И опять Клава. Принимает посла Замбии. Он черен как гуталин, она бела, что твой лебедь. Как всегда, безукоризненно одета. Больше никаких глупостей с короткими юбками. Легкое слегка обтягивающее серое платье. Не знаю, кто ей шьет, но оно удивительно подчеркивает все достоинства ее фигуры. Никаких вольностей, груди не выпирают, как у продавщицы, но товар подан лицом. Вот и черный этот пялится на Клаву, словно готов платье с нее содрать. Не выйдет, голубчик. Хороша Маша, Клаша то есть, да не ваша. Знаете, не он один. Я тоже, смешно сказать, порой начинаю возбуждаться, когда вижу ее по телевизору. Вот недавно показывали, как она в качестве главнокомандующего (главнокомандующей?) лично инспектирует ту самую Моршанскую дивизию ВДВ. Камуфляжный костюмчик с юбкой на ладонь ниже колена. Круглая шляпка, тоже камуфляжная, к которой она, принимая рапорт, подносит по локоть обтянутую перчаткой-сеточкой руку. Легкая вуалетка прикрывает большие зеленые глаза и яркие чувственные губы. Бедные парни, проходя мимо нее парадным маршем, ломают строй. Еще бы, попробуйте тянуть ногу, когда такая нештатная помеха в штанах. Мне достаточно вспомнить Клаву в Моршанске, чтобы…
Успокойся, старик! Сегодня нет никакой надобности воскрешать в памяти эротико-милитаристские картинки.
Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботою…
Я смотрю на часы. Без десяти одиннадцать. Выключаю телевизор, наливаю рюмку коньяку. Закуриваю.
Сегодня Нинка соглашается,
Сегодня жизнь моя решается.
Прихлебываю коньяк. Снова смотрю на часы. Одиннадцать ровно. И тут же звонит телефон. Хватаю трубку. Ровный мужской голос: «Можете выходить».
Стараясь унять сердцебиение, выхожу в закопченную прихожую – после пожара руки так и не дошли сделать ремонт, спускаюсь по лестнице, выхожу через двор на улицу. Шагаю несколько десятков метров до магазина «Копейка», возле которого, как всегда, за секунду до меня останавливается длинный черный автомобиль, сегодня, кажется, «бентли». Мелькает смешная мысль: вот уж, действительно, членовоз, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Распахивается задняя дверь, я опускаюсь на мягкое, пахнущее девственной кожей сиденье. Поехали.
* * *
Членовоз шуршит шинами по московским улицам. Увидев его номер, почтительно козыряют менты. Вылетаем из города и несколько минут мчимся по Рублевке.
Поворот направо, еще несколько минут, и за окном появляется высокий забор. Бесшумно открываются ворота. «Бентли» проезжает между голубыми елями, плавно огибает зеленый газон и останавливается у белого двухэтажного особняка. Я выхожу из машины, сопровождающий следует за мной в двух шагах сзади.
Срабатывают фотоэлементы, двери плавно расходятся, мы в мягко освещенном вестибюле. Обстановочка так себе. Пальмы в кадках, как в вокзальном ресторане. Давно уже не удивляюсь: это не Клавин вкус – досталось от прежнего хозяина, а распорядиться, чтобы поменяли, не доходят руки, занята с утра до ночи.
«Куда дальше, знаете?» – спрашивает немногословный сопровождающий. Знаю, не первый раз. Я киваю головой и уже один иду по длинному коридору. Останавливаюсь у зашторенной двери и негромко стучу. Дверь немедленно открывается, Клава бросается мне на шею.
Мы долго стоим обнявшись, потом она целует меня в губы, отстраняется и говорит:
– Ты даже не знаешь, как я соскучилась…
Знаю. Меня самого трясет от желания, так хочется расстегнуть ее домашнюю кофточку, потом что-то там еще… Но Клава тянет меня на кухню, где все уже готово к ужину. Нет, кажется, не все. Клава роется в холодильнике и ворчит:
– Ну сколько можно им говорить, чтоб не брали рафинированное масло? Ты же его не любишь, правда?
Я заверяю Клаву, что мне до лампочки рафинированное или не рафинированное, с холестерином или без, что я умну ее салат хоть с машинным маслом, но вообще-то есть не очень хочется. Может, попозже закусим? Но Клава непреклонна: для кого я все это готовила?
Она заправляет салат, и мы садимся за стол. Вкусно. Особенно под холодную водочку, под «Царскую коллекцию», цепкий производитель которой добился своего – стал поставщиком двора.
Наевшись до отвала, я закуриваю. Клава от моей «Явы» отказывается и начинает искать свои сигареты. Давным-давно, пройдя в Палату, она, естественно, перешла на «Парламент». Обслуга в дом сигареты не приносит: считается, что Клавдия Николаевна ведет здоровый образ жизни и не курит, вот и приходится ей раздобывать курево самой и, как школьнице, припрятывать. Куда я сунула пачку?
– Мать нации не должна подавать своим детям дурных примеров, – подшучиваю я над временным руководителем России.
Клава дает мне шутливый подзатыльник и тут же находит своей «Парламент». Мы стоим у окна и курим. По освещенной лужайке проходит статный офицер внутренней охраны. Я снова не удерживаюсь от легкой подначки:
– Вот отправишь меня домой, можешь пригласить этого паренька.
Не сообразив сразу, что я намекаю на ее великую предшественницу, Клава поначалу дуется, а когда до нее доходит – смеется, гасит сигарету и берет меня за руку. Мы шествуем в Первую спальню России…
Потом мы лежим обнявшись, и при каждом нашем движении Главная койка державы слегка поскрипывает.
– Ну вот, – говорю я, – а если придется принимать, скажем, американского президента, сраму не оберешься. Раструбят на весь мир, что в России койки скрипят…
– А ты постарайся, чтоб мне обходиться без президентов, – в тон отвечает Клава.
И я принимаюсь стараться. Стараюсь во всех мыслимых положениях, да так, что, окажись в нашей спаленке Маргарита Куцая, в Главпрокуратуру немедленно пошла бы вот такая телега и меня бы привлекли за надругательство над символами российской государственности. Но Куцей, к счастью, с нами не было, мы были с Клавой вдвоем, и нам было хорошо. Просто замечательно.
Заснуть нам так и не пришлось. Еще затемно Клава грустно сказала, что мне пора: ей уже с восьми надо работать с документами.
Я одеваюсь. Клава провожает меня до двери, прижимается ко мне, целует и шепчет:
– Может, в среду получится… Тебе позвонят.
У подъезда меня ждет членовоз.
* * *
Светает. Членовоз везет меня сначала по Рублевке, потом по просыпающимся московским улицам. Прикрыв глаза, я думаю о нас с Клавой. Последние месяцы она пару раз намекала на неопределенность наших отношений. Может, и впрямь устроить всему народу праздник? Обвенчаться в большом красивом храме, чтобы были все наши, чтобы Его Святейшество самолично обвел нас вокруг аналоя, чтобы на Клаве была белая фата, а на мне черный фрак с белой гвоздичкой в петлице. Как было бы славно…
Но стоит мне представить себя в роли принца Филиппа, всякое желание идти под венец пропадает. А с другой стороны, я так люблю просыпаться рядом с Клавой…
2007




