
М. Л. Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах. Т. 1: Греция
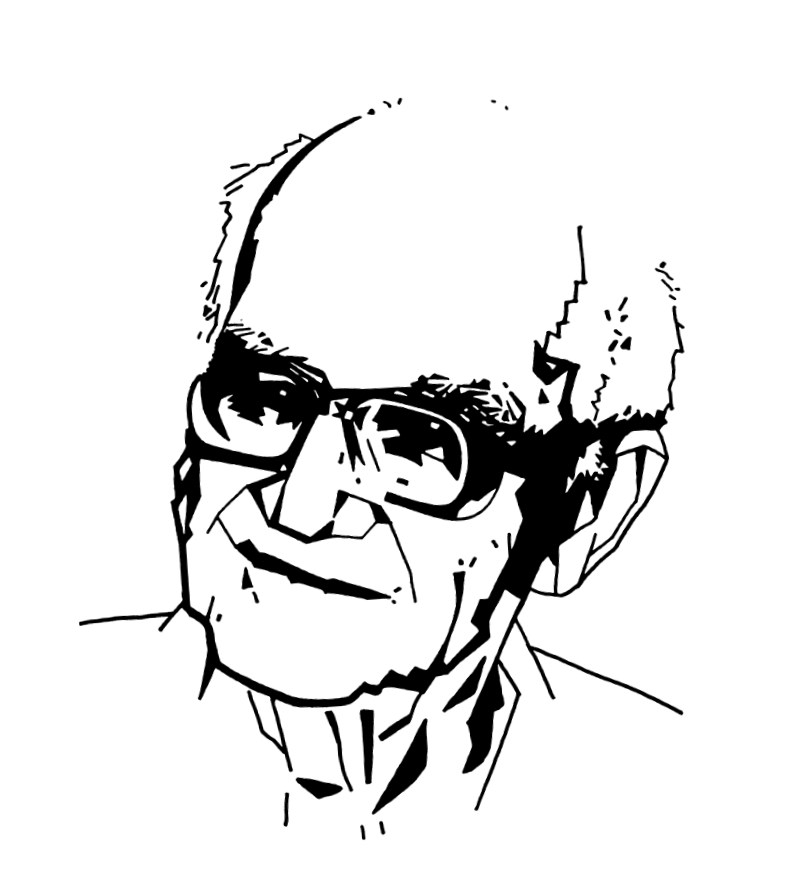
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Сила гравитации большой личности неизбежно порождает вокруг себя мифологическое поле – недаром М. Л. Гаспаров давно стал героем саг и легенд гуманитарного сообщества. По тем же сложным мифотворческим канонам был организован и научный универсум Михаила Леоновича. В этом интеллектуально насыщенном пространстве обитало несметное количество исторических и литературных персонажей, временной и пространственный диапазон определялся категориями вечности, а художественная креативность и строгая эмпирика сливались в причудливом симбиозе.
В этой модели вселенной, однако, трудно вычленить авторитарную мыслительную вертикаль: в ней нет ни древа мира («великой идеи»), ни пресловутого краеугольного камня («главного труда жизни»), на основании которых ученого можно было бы залучить в компанию пророков или учителей жизни. Пространство, сотворенное Гаспаровым, – это конгломерат самостоятельных и часто самодостаточных территорий научной мысли, часть которых успешно им колонизирована, а часть лишь обозначена пунктиром.
Не случайно Михаил Леонович при всей его многолетней безупречной профессиональной репутации стал для общегуманитарной среды знаковой фигурой именно в 1990‐е годы. Его протеическая способность ускользать от диктаторских претензий «научных школ» и монологических концепций, его виртуозное владение различным профессиональным инструментарием и жанровыми категориями во имя расширения и обогащения научного поиска – эта жизненная стратегия стала для отечественных гуманитариев, ищущих свой путь в стремительно трансформирующемся культурном пространстве, и путеводной звездой, и интеллектуальным вызовом.
Масштаб личности ученого, широта его диапазона исследований, его научного и культурного кругозора поставили перед составителями его посмертного собрания сочинений непростую задачу. Как в ограниченном объеме 6 томов передать всю многогранность научного наследия Гаспарова и в то же время впервые сформулировать основные направления его исследований? В результате бурных и плодотворных дискуссий члены редколлегии проекта пришли к выводу, что при всех метаморфозах академической деятельности Михаила Леоновича в ней можно уловить главные смысловые линии его творчества, коими, по их мнению, можно считать следующие:
– историю античности и средневековья,
– историю и методологию науки,
– стиховедение,
– историю русской поэзии,
– переводческую деятельность.
Именно эти основные характеристики его деятельности предопределили содержание каждого из томов. Уникальность и научная ценность концепции собрания сочинения М. Л. Гаспарова, предложенной составителями, заключаются в том, что:
А) тома формируются вокруг «смыслообразующих» монографий (том о Древней Греции откроется «Занимательной Грецией», в том о переводах будет включена монография «Экспериментальные переводы», в том о русской поэзии – «Метр и смысл», том об истории и методологии науки завершится «Записями и выписками»);
Б) в каждом томе просветительские тексты на равных правах соседствуют с академическими штудиями.
Хотелось бы более подробно остановиться на второй особенности данного проекта, поскольку сосуществование в одном пространстве научных и популярных текстов явно противоречит общепринятой жанровой иерархии письма и, казалось бы, нарушает негласную волю самого Гаспарова, который отказывался включать популярные произведения в прижизненные собрания сочинений.
Дело в том, что Михаил Леонович профессионально сформировался в послевоенной гуманитарной среде, которая серьезно пострадала от погромных кампаний конца 1940‐х годов. Стремясь оградить себя от идеологической индокринации и профанации академического знания, гуманитарии сформулировали принципы «высокой» – по сути позитивистской – науки, которая не приемлет демагогии и бездоказательности. Это была вынужденная и во многом оправданная стратегия, но ее оборотной стороной стало пренебрежение к популяризаторству, которое было отдано на откуп дилетантам. Тем ученым, которые тяготели к просветительству, приходилось скрывать свои «дурные» наклонности, дабы избежать цехового осуждения. Напомню, каким суровым упрекам со стороны многих коллег подвергся Ю. М. Лотман за свои блистательные телевизионные «Лекции о русской культуре», как порицали А. Я. Гуревича за то, что он слишком много публикуется и читает факультативные лекции в разных учебных заведениях и т. п. Симптоматично, что принесшие Гаспарову славу в широкой читательской среде «Занимательная Греция» (написанная еще в 1970‐х годах), «Записи и выписки», «Экспериментальные переводы» и «творчество» Ящука появились в постсоветское время, когда произошли известная демократизация гуманитарной жизни и частичное ослабление академической замкнутости.
Если из нашего времени непредвзято посмотреть на вышеупомянутые произведения, а также на популярные статьи Гаспарова из энциклопедий, антологий и труднодоступных изданий, то они представляют собой блестящие образцы подлинно научных текстов, «переведенных» на неспециализированный язык, но при этом лишенных и тени банализации смысла. Включение их в собрание сочинений очень обогащает содержание каждого тома, а главное – наглядно показывает эволюцию научной мысли Гаспарова: как разработка в академических статьях определенных тем и мотивов постепенно кристаллизуется в монографиях, а затем в сжатом виде перетекает в популярное изложение.
Таким образом, в этом проекте предпринята попытка представить читателю максимум разнообразных и в то же время очень цельных в единстве взгляда, подхода, ракурса трудов М. Л. Гаспарова. К сожалению, даже в шесть больших томов невозможно уместить весь необъятный корпус текстов, созданных ученым за долгие годы работы, поэтому данное собрание сочинений никак не может претендовать на звание полного, оно, по замыслу его создателей, лишь стремится быть наиболее репрезентативным. Чтобы как-то компенсировать отсутствие многих важных трудов Гаспарова, каждый том будет сопровождаться библиографией – списком текстов, которые по разным причинам не вошли в содержание книги (библиографию к двум «античным» томам см. во втором томе). Сводный именной указатель читатель сможет найти в шестом, завершающем томе собрания сочинений.
Разумеется, этот проект – лишь первое приближение к глубокому изучению творчества М. Л. Гаспарова в контексте развития отечественной гуманитарной мысли ХХ века, это приглашение российского интеллектуального сообщества к серьезному разговору о социальной роли и функции современного академического знания.
Для меня же лично (как издателя многих работ Михаила Леоновича) данное собрание сочинений – это дань уважения большому ученому, примирившему гуманитарную науку с художественным творчеством и соединившему Касталию с профанным миром.
Я хочу выразить огромную благодарность всем членам научной редколлегии проекта, предложившим оригинальную концепцию собрания сочинений, и особую признательность Алевтине Михайловне Зотовой, хранительнице наследия М. Л. Гаспарова, так бесконечно много сделавшей для продвижения его творчества.
Ирина Прохорова
О МИХАИЛЕ ГАСПАРОВЕ
Михаила Леоновича Гаспарова не стало в 2005 году. Остались научные труды: десятки книг и сотни статей по истории античной литературы и стиховедению; переводы с древних и новых языков; захватывающе интересные книги для детей («Занимательная Греция», «Капитолийская волчица», «Занимательная мифология»), которые с удовольствием читают и их родители; а еще удивительная, трудноопределимая по жанру (причудливый сплав дневниковых заметок, воспоминаний и литературно-критических эссе) книга для взрослых, которую с пользой для себя прочтут дети, когда вырастут, – «Записи и выписки».
Русскую и не только русскую поэзию Гаспаров знал как никто, и наряду с глубокой разработкой сложных теоретических проблем стиховедения, а в последние годы лингвистики стиха он много внимания уделял и практическим разборам отдельных стихотворений. Он говорил, что делает это сам для себя, чтобы дать себе отчет, почему такой-то текст производит на нас эстетическое впечатление, ответить на вопрос, как сделано стихотворение. Когда речь идет о разборе простых стихотворений, это называется «анализ», когда о разборе сложных – «интерпретация». По его словам, он намеренно избегал поисков «подтекста» – скрытых реминисценций поэта из других стихов, ограничивался только тем, что прямо дано в тексте и воспринимается даже неискушенным читателем, и старался останавливаться там, где искушенный читатель может сам перейти к более широким обобщениям. Главной заботой для него было описать очевидное, а это не так просто, как кажется. Некоторые из этих монографических разборов позже использовались в курсах лекций по анализу поэтического текста, прочитанных в МГУ и РГГУ.
В этом далеко не полном собрании сочинений М. Л. Гаспарова мы попытались собрать – помимо некоторых наиболее интересных монографий – разбросанные по разным книгам, журналам, лекциям, докладам (для коллег, студентов, старшеклассников) разборы конкретных стихотворений, от более простых к более сложным. Даже анализ «ясных» – привычных, хрестоматийных стихов Пушкина, Лермонтова, Фета – приводит порой к неожиданно широким выводам, а искусная гаспаровская интерпретация позволяет понять самые «темные» поэмы и стихотворения Хлебникова, позднего Брюсова, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама. Поэтому нам кажется, что эта книга будет полезна и интересна не только специалистам-филологам, но и всем тем, кто просто любит стихи и хочет понять их.
Несомненно, заинтересуют читателя и статьи о сложных отношениях С. Я. Маршака с меняющимся временем, об объявленном советской критикой «фокусником и формалистом» талантливом поэте Семене Кирсанове, и небольшие эссе о малоизвестных и забытых поэтах, в том числе о Вере Меркурьевой, которую Михаил Леонович буквально открыл, разыскав в ЦГАЛИ никогда не печатавшиеся стихи и письма этой талантливой поэтессы.
Познакомились мы с Михаилом Леоновичем, тогда, конечно, просто Мишей Гаспаровым, в десятом классе, в литературном кружке при филологическом факультете МГУ. Кружок, куда приезжали десятиклассники со всей Москвы, занимался на четвертом этаже старого, с Герценом и Огаревым, университетского здания на Моховой. Другой корпус – через улицу, с куполом и облокотившимся на большой глобус во дворе Ломоносовым, назывался «новым», хотя уже достраивалась высотка на Ленинских горах. В университете школьников поразили широкая, но крутая лестница из ребристых железных плит со стертыми, стесанными за двести лет до скользкого блеска, даже чуть вогнутыми посередине ступенями, и крошечные, куда меньше школьного класса, комнатушки, гордо именуемые аудиториями. На следующий год мы поступили в МГУ, Миша – на классическое отделение филфака, я – на только что открывшийся факультет журналистики. Филфак был на четвертом этаже, а журналистика – на первом. На переменах мы бегали друг к другу повидаться, а после занятий подолгу просиживали на широком лестничном подоконнике, и он читал удивительные, певучие стихи неизвестных мне раньше поэтов – Белого, Гумилева, Мандельштама. В первый раз я ошиблась, сказала: «Мандельштамп», – он поправил, но не смеялся.
На втором курсе мы поженились (и прожили вместе больше 50 лет), на пятом у нас родилась дочка Алена, а через 8 лет сын Владимир, которого в семье звали Димой. Дочь впоследствии стала детским психологом, а сын в какой-то мере пошел по стопам отца. В 2020-м году он умер от коронавируса, тоже оставив богатое литературное наследство: стихи, прозу, переводы, пьесы. Но писал он, чтобы не путали с отцом, только под псевдонимом Илья Оказов, к сожалению незарегистрированным, и теперь нет официальных доказательств его авторства, что делает невозможным издание всех этих работ. Кроме переводов и небольших рассказов в газетах и журналах он сумел выпустить только одну большую книгу «Аббасидские байки. Багдадские халифы и их подданные», похожую на «Занимательную Грецию», но не на греческом материале, который нам хоть отчасти известен, а на арабском.
Университет мы окончили в 1957 году. М. Л. начал работать в Институте мировой литературы младшим научным сотрудником (с зарплатой 105 рублей), а я – редактором в научно-издательском отделе одного полувоенного института.
Первой публикацией Михаила Гаспарова стала в 1958 году напечатанная в «Вестнике древней истории» статья «Зарубежная литература о принципате Августа». Затем в этом же журнале и в выходивших тогда же в Издательстве АН СССР первых томах «Истории римской литературы» появился ряд других его статей.
В 1962 году вышла первая большая книга его переводов басен малоизвестных тогда у нас античных поэтов Федра и Бабрия, а вслед за тем «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, «Басни Эзопа», «Поэзия вагантов» и ряд других интереснейших переводов, снабженных комментариями и увлекательными вступительными статьями об этих авторах и их времени, которые читатели найдут в первых двух томах настоящего издания.
Первой большой научно-популярной (а вернее, научно-художественной, если можно так назвать этот жанр) книгой стала «Занимательная Греция». Выходила она очень трудно: рукопись приняли в «Детгизе», очень хвалили, и пролежала она там почти 20 лет (никак не могли подобрать нужных иллюстраций), пока автор сам не забрал ее из издательства. По тем временам – дело неслыханное, смотреть на это сбежались сотрудники со всех трех этажей.
Тут как раз кончилась советская власть, развалилось книжное дело – издавать книги стало рискованно. Рукопись побывала в четырех или пяти издательствах. У некоторых даже не было своего помещения, и приходилось решать все вопросы и согласовывать правку в вестибюле Ленинской библиотеки или даже в метро, прерываясь на шум каждого проезжавшего поезда. Занималась этим в основном я после основной работы. Мы с мужем сами подбирали иллюстрации из всех доступных книг, добывали фото музейных греческих ваз и пр., находили специалистов, которые делали черно-белые и цветные слайды. С остальным оформлением (буквицы, концовки, шмуцтитулы) нам помогала замечательная художница Татьяна Ивановна Алексеева. Всего набралось более 300 иллюстраций, но основная их часть, к сожалению, не вошла в книгу (за исключением двух подарочных экземпляров, выпущенных позже издательством «Фортуна»). Наконец в 1995 году многострадальную «Занимательную Грецию» удалось издать совместными усилиями «Греко-латинского кабинета Ю. А. Шичалина» и издательства «Новое литературное обозрение» («НЛО»), но только с простейшими графическими рисунками и собственноручно начерченными Михаилом Леоновичем картами, благо, предвидя трудности с картинками, он изначально старался писать так наглядно, чтобы и без картинок было понятно. Впоследствии книга неоднократно (более 15 раз) переиздавалась «НЛО» и другими издательствами, включая зарубежные.
А вообще 1995 год был богат для нас событиями: вышла после всех мытарств «Занимательная Греция» и там же, в «НЛО», «Избранные статьи» (с тремя разделами: «О стихе», «О стихах», «О поэтах»), отмеченные позже малой Букеровской премией. Еще до этого, в 1994 году, М. Л. Гаспарову была присуждена Государственная премия Российской Федерации (за «Русский стих 1890–1925 годов в комментариях» и переводы Авсония, вышедшие в 1993 году). Позже он был удостоен еще нескольких литературных премий: Андрея Белого (1999, за «Записи и выписки»), им. Бориса Пастернака, а также академической премии им. А. С. Пушкина (2004, за трехтомник «Избранные труды»).
Так дальше и шло: росли дети, потом внуки; из Института мировой литературы М. Л. перешел в 1990 году в Институт русского языка АН (в сектор стилистики и языка художественной литературы) и по совместительству с 1992 года работал в Институте высших гуманитарных исследований при РГГУ; от младшего научного сотрудника он дорос до действительного члена Российской академии наук. Менялись страна и условия для научной работы: появилась возможность выезжать с курсами лекций и на научные конференции за рубеж (в Принстон, Стэнфорд, Лос-Анджелес, Вену, Пизу), а главное – выходили все новые и новые книги. Я не буду на них останавливаться, в настоящем издании читатель найдет список его избранных трудов, а всего их (вместе с посмертными публикациями) 623 названия.
В большинстве этих книг (кроме уж совсем специальных) я была редактором, читала и правила бесчисленные корректуры, сверяла таблицы и т. д. Но больше всего я довольна тем, что уже после смерти Михаила Леоновича мне удалось издать несколько его неопубликованных книг, таких как «Капитолийская волчица. Рим до цезарей» (я нашла ее в маленьком блокнотике, исписанном вдоль, поперек и наискосок мельчайшим «гаспаровским» почерком, простым карандашом, почти стершимся за 40 лет), «Занимательная мифология», отличающаяся от всех других тем, что едва ли не впервые представляет греческую мифологию не как собрание разнородных героических сюжетов, а как единую историю отношений между богами и людьми, и два тематических сборника: «Филология как нравственность. Статьи, интервью, заметки» и «Ясные стихи и „темные“ стихи. Анализ и интерпретация», а также собрать разбросанные по разным труднодоступным журналам и газетам его научные и публицистические статьи, интервью и даже его собственные стихи, сохранившиеся в компьютере и записных книжках.
А главной наградой для меня стало посвящение во втором издании «Записей и выписок», над которым М. Л. работал до последних дней, уже в больнице. Вышло оно уже после его смерти, тоже в «НЛО». На отдельной странице, сразу после титула, там написано:
Моей жене
Алевтине Михайловне Зотовой
с благодарностью за всю жизнь
и на всю жизнь
А. М. Зотова
СЛОЖНАЯ «ПРОСТОТА» МИХАИЛА ГАСПАРОВА
ПРЕДИСЛОВИЕ К I И II ТОМАМ
Новое собрание трудов Михаила Леоновича Гаспарова открывается двумя томами его работ о древности: античности и средневековье. Это само по себе вполне понятно; главная причина здесь чисто хронологическая. Наследие Гаспарова огромно и покрывает весьма объемные и протяженные пласты русской и европейской культуры, но для них обеих античность – естественный и неотъемлемый исток, без которого немыслимы явления куда более современные, как поэзия столь любимых Гаспаровым Мандельштама, Брюсова или Анненского. Разумеется, это довольно банальный трюизм, но в трудах Гаспарова многие простые истины предстают как-то по-новому свежо и потому по-новому убедительно. Как кажется, для него эта связь времен всегда была очень важна, и не случайно его первым шагом в осмыслении классических литератур стала курсовая работа на втором курсе МГУ, сравнивавшая комедии Аристофана с «Мистерией-буфф» Маяковского. Понятно, что в «Записях и выписках» этот студенческий опыт представлен с максимальной иронией (а когда Гаспаров вообще писал о себе без нее?): как самонадеянная заносчивость юности, о которой ныне «страшно подумать» и от которой уже на следующем курсе он счастливо «опамятовался»1. Но сам этот выбор кажется чрезвычайно показательным – и его отзвуки можно уловить во многих уже вполне зрелых работах Гаспарова, от анализа риторических топосов в прозе Чехова до скрупулезного разбора античных метров в русской поэзии. Для него важность античности для современности – это не просто общая декларация, но и (как любой предмет его исследований) повод для максимально пристального разбора конкретных и важных деталей и механизма этой рецепции, не абстрактный лозунг, а естественная суть разбираемых явлений.
Естественность помещения античности и средневековья в начало собрания трудов подкрепляется еще и тем, что хронологическое первенство древних эпох для Гаспарова – это не просто историческая данность, но еще и факт личной биографии. О многогранности его научного наследия писали многократно; и действительно, в нашей филологической науке существует по крайней мере три Гаспарова: специалист по античности (медиевистика, правильно или нет, чаще всего воспринимается как некое естественное продолжение его классических штудий), по сути создатель и главная фигура в отечественной школе стиховедения – невероятно сложной науки, лежащей на грани литературоведения и лингвистики, и, наконец, один из наиболее тонких интерпретаторов и комментаторов русской поэзии. И это только в рамках того, что традиционно причисляется к «чистой» гуманитарной науке, – а ведь огромную часть его наследия составляют переводы самых различных авторов самых разных эпох; да и среди его академических работ немало того, что трудно уложить в эту трехчленную структуру и скорее следует отнести к истории и теории (если избегать не очень им почитаемой «философии») гуманитарного знания в целом. И если прослеживать эволюцию Гаспарова-ученого, то вплоть до конца 1980‐х годов в нашем гуманитарном сообществе его знали прежде всего (если не исключительно) как филолога-классика, и уже потом его отчасти вытеснил и даже затмил Гаспаров-стиховед и Гаспаров-комментатор Мандельштама и Пастернака.
Эту научную метаморфозу Михаил Леонович в своих автобиографических заметках и интервью стремился объяснить прежде всего внешними и как бы «приземленными» причинами: античность была той областью, которая в наибольшей степени была защищена (в силу отдаленности предмета) от советского идеологического диктата, и потому тут можно было спокойно заниматься тем, что интересно и нравилось, а главное, так, как было интересно и нравилось. «Античность не для одного меня была щелью, чтобы спрятаться от современности. Я был временно исполняющим обязанности филолога-классика в узком промежутке между теми, кто нас учил, и теми, кто пришел очень скоро после нас. Я постарался сделать эту щель попросторнее и покомфортнее и пошел искать себе другую щель»2. В этих словах сквозит явное желание показать условность и даже вынужденность данного периода своей научной биографии; совсем не случайной (учитывая, как тщательно Гаспаров выбирал слова) кажется другая фраза о том, что он провел в античном секторе Института мировой литературы ровно «тридцать лет и три года» – по мысли автора, видимо, набираясь сил, как былинный богатырь, для своих главных свершений. Многим коллегам-античникам памятны частые разговоры о том, что он не ученый-классик, а в лучшем случае популяризатор и переводчик (к этой теме мы еще вернемся); а в его интервью, данном уже в начале 2000‐х студентам кафедры античной культуры РГГУ, замечательно и то, как он сравнивает «свое время» в классической филологии с «их временем», причем сравнивает как бы на равных, и то, сколь решительно звучит «нет» в ответ на вопрос, следит ли он за тем, что делается в данный момент в классической науке3.
Конечно, в объяснении выбора античности «условиями среды» есть своя правда; этой логикой и впрямь руководствовались многие, занятия древностью в советскую эпоху были не только «бегством от современности», но и своего рода интеллектуальной фрондой. Конечно, в этих простых объяснениях звучит и свойственное Гаспарову подчеркнутое самоумаление. В ораторском искусстве соответствующая риторическая фигура именуется литотой – и известно, что в иных случаях она, как раз напротив, подчеркивает важность описываемого явления. И кажется, что занятия античностью и средними веками для Гаспарова стали первым этапом не только в чисто хронологическом смысле, не только «первым по порядку», но, хотя бы отчасти, и «первым по значению» (разделение, тоже взятое из античных риторических теорий). Если взглянуть на то, какие предметы и каких авторов он в этой области выбирал, а главное, на саму манеру и те формы, в которых он об этих предметах и авторах говорил, то становится заметным, что выработанные в этот период методы и приемы сохранились и во многих последующих его трудах на совершенно другие темы. И именно они делают разных Гаспаровых одним.
Одна из наиболее известных цитат Гаспарова: «Филология – наука понимания». К филологии классической она применима, быть может, в наибольшей степени. Изучение мертвых языков – что это, как не постижение того, что в принципе неизвестно никому и поэтому и есть суть языка вообще? Изучение текстов древних культур – что это, как не попытка приблизить нас к авторам, отстоящим от нас на сотни и тысячи лет, «перевести» на язык современного читателя то, что в принципе кажется «непереводимым»? А именно в таком переводе и состоит, по Гаспарову, самая суть филологии. Поэтому можно сказать, что занятия античностью – это альфа и омега его филологического метода, одновременно и первые опыты в нем, и его квинтэссенция. В конце концов, филология вообще выросла из филологии классической; Михаил Леонович повторил этот путь науки в целом в становлении той ее составляющей, которую можно назвать филологией «гаспаровской».
Именно стремление к пониманию и стало основой и стимулом в занятиях Гаспарова античностью. Он многократно подчеркивал, что предпочитал латинские тексты и римскую культуру греческой прежде всего в силу того, что она ему была понятнее, – но, конечно, в обычной своей самоуничижительной манере объяснял это своей «неспособностью» к языкам, и поскольку латинский язык понятнее и легче, он ему и больше подошел. «Я рано привязался к пути наименьшего сопротивления, латинских авторов для собственного удовольствия понемножку читал, а от греческих уклонялся». Никак нельзя принять всерьез эти резоны от переводчика Пиндара, Парменида и Аристотеля, но, пожалуй, во всех подобных его рассуждениях ключевое слово «проще». Латинский язык «проще» – с этим вообще-то можно поспорить, но важно то, что в изучении античности Гаспарова тянуло к «простоте», понятности, которую он поначалу нашел именно у римских авторов. Что же означает эта «простота»?
Как кажется, ее наиболее адекватным синонимом является ясность. Сравнивая себя с одной из символичных фигур старшего поколения, А. Ф. Лосевым, Гаспаров писал: «Его античность – большая, клубящаяся, темная и страшная, как музыка сфер. Она и вправду такая; но я поэтому вхожу в нее с фонарем и аршином в руках, а он плавает в ней, как в своей стихии, и наслаждается ее неисследимостью»4. Гаспаровский «фонарь» здесь – метафорическое воплощение этой тяги к ясности; она стала целью всего его научного пути, вплоть до комментариев к наиболее «темным» стихам Пастернака и Мандельштама. Но в начале этого пути он настойчиво искал ее именно в античных текстах, ведь не случайно «ясность» была провозглашена одним из главных достоинств художественного стиля именно античной теорией ораторского искусства, которой Михаил Леонович много занимался, замечательно и сжато представив ее понятийный аппарат в статье «Античная риторика как система»5.
Помимо «фонаря», для достижения ясности и понимания нужен «аршин». Именно желание «измерить» неуловимое – особенности воздействия и восприятия художественного, прежде всего поэтического, текста – впоследствии ляжет в основу его подхода к поэзии современной и прежде всего его стиховедческих подсчетов, но оно же явственно ощущается и в его антиковедческих статьях. Пожалуй, наиболее яркий пример – это «Сюжетосложение древнегреческой трагедии» с попыткой подробной многоуровневой классификации всех сюжетных структур и механизмов сохранившихся текстов; степень ее исчерпанности и убедительности спорна, но здесь прежде всего важен сам принцип. Принцип, кстати, как представляется, почерпнутый из самой античности, точнее, из «Поэтики» Аристотеля, так же стремившегося разложить трагедию на составные части, из сочетания которых и возникает единое целое. То же стремление восстановить сколько-нибудь ясную структуру в труднорасчленимом художественном целом очевидно в «Строении эпиникия» с его «семью способами краткого, „неотвлекающего“ и четырьмя способами пространного, „отвлекающего“ разнообразия эпиникийной хвалы» (с. 424), иллюстрированными схемой развертывания пиндаровской оды и классификацией различных типов мифологического рассказа. В том же ряду – и объемная статья, посвященная композиции «Поэтики» Горация, где Гаспаров, во многом следуя очень популярной тогда в западной науке тенденции, пытается реконструировать структуру поэтического учебника эллинистического ученого Неоптолема, по свидетельству комментаторской традиции, послужившего основой для «Послания к Пизонам». Надо сказать, что и у западных коллег, и у самого Гаспарова эти реконструкции вышли не очень убедительными: все же «Наука поэзии» – больше поэзия, нежели наука, но опять-таки характерно настойчивое желание за причудливой чередой порой чисто ассоциативных предписаний и примеров уловить неумолимую последовательную логику технического руководства.
Перечисленные работы (а их ряд может быть легко продолжен, например, «Неполнотой и симметрией в „Истории“ Геродота») – пример поиска простого в сложном. Не случайно, по словам самого Гаспарова, именно после работ о «Поэтике» Горация он «навсегда остался в убеждении, что нет такого хаоса, в котором нельзя было бы найти порядок; с этим потом и работал всю жизнь над любым материалом»6. При этом стоит обратить внимание на одну особенность: почти всегда этим аналитическим поискам «алгебры в гармонии» сопутствуют и опыты воссоздания самой «гармонии», то есть перевода тех текстов, о которых идет речь или которые послужили важным источником для исследования. Прозаический перевод «Послания к Пизонам» (редкая сама по себе форма, которой очень не хватает в отечественной традиции) присутствует уже внутри самой статьи о его композиции, а далее, в полном издании Горация, Гаспаров дает уже собственную поэтическую версию; кроме того, поиск эллинистического научного прототипа «Науки поэзии» заставляет его обратиться к переводу пятой книги трактата Филодема «О поэтических произведениях», в которой единственный раз в античной традиции кратко описывается учение Неоптолема, предполагаемого образца для Горация. Статья об эпиникии неразрывно связана с переводами Пиндара, а работа о структуре трагического сюжета очевидно вытекает из перевода «Поэтики». Перевод может предшествовать аналитической статье, а может, напротив, становиться ее дополнительным прояснением, в том числе и много лет спустя: так, еврипидовские «Орест» и «Электра» в переводе Гаспарова, с их последовательной лексической и метрической простотой, позволяют с особой силой подчеркнуть и вывести на первый план трагическое переживание, патос, который в статье выделяется в качестве «основного элемента структуры трагедии»7. Перевод античных памятников у Гаспарова может быть и отправной точкой, и итогом исследования, но, главное, он всегда является сутью этого исследования, цель которого – понять и прояснить древний текст и для читателя, и для самого себя.







