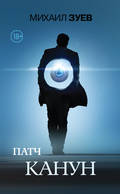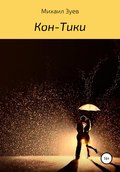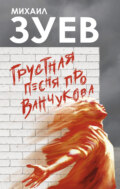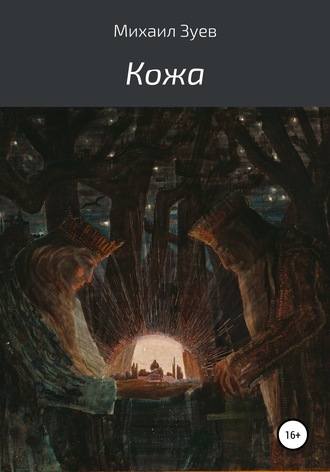
Михаил Зуев
Кожа
VIII. [ТЕКСТИЛЯ́]
Была зима.
На излете, гнилая-мокрая уже вся; с прогалинами и проталинами, с сыростью и зябкостью, с невесть откуда берущимся туманом, с кинжальным соловьем-разбойником свистящим ветром из черных подворотен, с жирной слякотью на метрополитеновских лестницах, с недлинными скупыми вечерами, с тяжелой ватой наваливающимися на город ночами, с полуслепыми днями, судорожно проскребающими себе дорогу в грязных разнокалиберных витринах, окнах и оконцах.
С утра в четверг перед восьмым марта, однако, подморозило, запорошило свежим белым колким пушистым, задуло – да так, что утренняя Мишкина прогулка от дома до входа в метро превратилась в пробежку с беспомощным потиранием засочившегося жидким хлюпаньем носа.
После двух дня народ из лаборатории тихо рассосался – кто в местную командировку, кто в библиотеку, а кто и вовсе без соблюдения приличий. Какая может быть работа, если впереди три выходных подряд. Значит, из трех надо сделать три с половиной. Это если ты не дурак. Мишка же был дураком. Ну и до кучи – младшим научным сотрудником двадцати двух лет от роду со стажем полгода после института.
Впервые в лаборатории Мишка появился аж девять лет назад – прошедши через комиссию по делам несовершеннолетних (а вы как думали – кто же просто так в советской стране разрешит школьнику работать?!). После седьмого класса, на каникулах Мишка устроился лаборантом на полставки, и все три месяца вместо пинания футбола и брождений с гитарой по подъездам прилежно мыл полы и инструмент, кормил зверей в виварии, рисовал плакаты для конференций, ну и, конечно, по мере способностей и возможностей ассистировал в эксперименте; ради этого и устраивался. В лаборатории Мишку полюбили за смешную серьезность, незлобивость, пунктуальность и улыбчивость. Говорили вслед – маленький какой, а вот, поди же!
Когда совсем приблизился сентябрь, Мишке отдали на руки настоящую трудовую книжку с подписями и печатями, кроме очередной зарплаты заплатили премию и пожелали успехов в дальнейшей профессиональной подготовке. Поскольку люди были хорошими, а пожелания искренними, то они сбылись – успехов вскорости оказалось хоть отбавляй.
Третий, четвертый, пятый и шестой курс меда Мишка пропадал на теоретической фундаментальной кафедре. Пропадание, к середине шестого курса, завершилось готовой кандидатской диссертацией, даже с несколько раз отшлифованным литобзором и заверениями шефа в специально под Мишку выписанном месте аспиранта.
За два месяца до выпускного Мишкина аспирантура куда-то растворилась, а кандидатская – оказалась вовсе не кандидатской, а двумя главами в скорой докторской шефа. Аспирантское место заняла симпатичная растерянная девчонка, хлопающая длиннющими ресницами; пришедшая на кафедру непонятно откуда, зато понятно, через кого. Мишку – верх цинизма – попросили «как старожила» ввести девушку в курс дела. Самый же ужас положения заключался не в этом. По настоянию шефа – чтобы удобнее было работать – субординатуру Мишка проходил по очень дефицитной и столь же отвратительной параклинической специальности, в пяти минутах ходьбы от «своей» —чьей-чьей, простите?! – кафедры. На весь выпуск двух лечфаков в тысячу человек таких дефицитных ребят оказалось всего шестеро – «соскочить» на свободное распределение, да еще и в последний момент, абсолютно нереально. Но еще более нереально было заниматься тем, чем никогда заниматься не хотел, и на что согласился только потому, что… потому что был дураком.
В лаборатории Мишку встретили, как будто и не случилось девяти лет отсутствия. Всё знакомое, все те же лица. Выслушали, похлопали по плечу, сказали – не парься. С помощью какого-то хитроумного финта профессор-заведующая разобралась с Мишкиным распределением, буквально в последний момент выцарапав его из когтистых лап троих «покупателей» из городских больниц, дали должность старлаба с высшим образованием, и буквально через три месяца провели по конкурсу младшим научным сотрудником, щедро прибавив в зарплате со ста десяти аж до всех ста сорока рублей.
Впрочем, как говорится у мудрых, не путай туризм с эмиграцией. Лаборатория семьдесят пятого и лаборатория восемьдесят пятого – те самые одесские две большие разницы. Теперь это были в основном уставшие от позднесоветской безнадеги непростые люди, ожидающие виз на ПМЖ. Им не до науки, есть проблемы поважнее – квартиру продать да вещи запаковать. Ну, а немногочисленные «остальные» погоды не делали.
Сегодня Мишка, конечно же, мог уйти вместе со всеми – в два часа. И ничего бы ему за это ни от кого не было бы. Но – одно «но»: идти ему было некуда. Конечно, физически было всё: и квартира, и ключи от нее (правда, денег в квартире не лежало), и паспорт, и прописка. Но вот на самом деле – на самом деле не было ничего. Куда ни глянь, сплошной минус, и арифметика «минус на минус дает плюс» здесь не работала.
– Эй, Михалыч, ты чего там, застрял, что ли? – хриплый звонок телефона на соседнем столе в пустой комнате и простуженный бас Пашки в трубке вывели Мишку из оцепенения, – три часа уже, давай, ко мне двигай, два эпикриза осталось, и свободен!
Пальто, шарф, ключ в замок, два оборота, лестница, еще лестница, проходная, «пока!» – вахтеру, воротник поднять, вниз по Яузскому до конца, налево, по мостику, мимо высотки на Котельнической, в горку, скользя, еще налево, «Медсантруд», во двор, новый корпус, три этажа по лестнице, «гнояшка», ординаторская, дверь – плечом:
– Работникам ножа и кохера! (с ударением на последнюю гласную) – бабла и счастья! Троекратное «ура»! – выдохнул взрумяненный марш-броском Мишка.
– Я поэт, зовусь я Цветик, вам мой пламенный приветик! – Пашка-кабан обернулся из-за заваленного историями стола к вдвинувшемуся в тесную ординаторскую другу, с трудом балансируя своими недетскими ста тридцатью кэгэ на крошечном стуле из клееной фанеры. – Чай будешь?
Одной на двоих чашкой спитого будто-бы-чая запили по паре глотков разведенного медицинского – за встречу. Брюнетистая Оксана Анатольевна, заступившая на сутки (кого ж еще, как ни женщину, было ставить в ночь на восьмое марта!), даже выделила на закусь из своего скудного пайка, что нужно было растянуть до утра, бутерброд с сыром. Тоже один. И на том – мерси бьен, дорогие гости, авек, что говорится, плезир!
Оставив Оксане все сигареты, оделись, съехали вниз – гляди ж ты, как большие! – грузовым лифтом, пожелав бабе Вере всего-всего-всего, вышли на улицу, потом все вверх и вверх по кривой покатой улочке до Театра на Таганке. Купили сигарет, спешно распаковали, подожгли, затянулись пару раз на морозе, переглянулись – и, под девяносто градусов влево, под горку, по Садовому, до маленького двухэтажного домика с надписью «рюмочная» на вывеске возле двери в полуподвал. Народу было много, шумно, но каким-то чудом у дальней стены, прямо в тот момент, когда Пашка и Мишка ввалились с улицы, освободился микроскопический круглый стоячий столик, куда пришлось втискиваться, прося подвинуться соседей, обступивших соседние столы.
– Чего с женой? – Мишка в подвальной полутьме внимательно глядел другу прямо в глаза. В дружьих глазах было пусто и бездонно.
– Да ничего. Отлично все. Идем ко дну.
Мишка и Пашка дружили почти шесть лет. Пашка пришел в группу, где учился Мишка, в начале второго курса. Пришел после академки, вернувшись из странной командировки в одну из дружественных братских африканских недостран, заработав здоровенный рваный шрам от осколочного на спине прямо возле проекции левой почки, две строчки записи в орденской книжке, и философское спокойствие в любых обстоятельствах – ибо Пашка не понаслышке знал, как сущая недостойная внимания мелочь вроде легкого мордобоя на студенческой дискотеке может обернуться двумя годами, вычеркнутыми из жизни. И, слава богу – богу слава, что сама жизнь осталась при нем. Он это понимал и ценил.
Пашка вырос без отца. Когда ему было три, отец тоже поехал в командировку. От отца осталось Пашкино отчество – Кириллович, десяток фотографий в потертых альбомах, да покосившийся гараж с проваленной крышей; в нем на вечный прикол встала двадцать первая «Волга» с оленем. Вернуть ее к жизни не было ни денег, ни желания. А продать машину мать не могла.
Пашкина мать, участковый педиатр, Пашкина бабушка, бывший педагог начальных классов, да пятнистая пинчерка Мумушка – вот это и была вся Пашкина семья. Но недолго. Спустя полгода Пашка женился на разбитной блондинке Лерунчике с соседнего потока, а через три года по малогабаритной двушке в Орехово ползало уже два разнополых карапуза, таская обезумевшую от такого обращения Мумушку за хвост, и вынося мозг бабушке и прабабушке, тоже обезумевшим – но уже от счастья.
Статус мужа и отца добавил Пашке разве что работы, сначала ночным сторожем и дворником, а потом медбратом приемного покоя в спецтравме шестьдесят седьмой больницы на Полежаевской. Холостяцкий же образ жизни он бросать не хотел и не собирался. Девки-медсестры и молодые врачихи висли на красавце-студенте гроздьями. Отваживать их было трудно, лениво, иногда и просто невозможно. Мать и бабушка всегда были всецело на Пашкиной стороне. Лерунчик оказалась в меньшинстве, и добром это кончиться не могло. Ну, никак не могло.
– Лерка на развод подала.
– Да ты чё?!
– Ага. Приехали. Тушите свет, сливайте воду.
– Паш, давай, я с ней поговорю.
– Да без толку это.
Нащупав в кармане двушку, Мишка без пальто выскочил на улицу. Распахнуло полы пиджака, забралось под рубашку, и галстук не спас, пробрало до костей. Хорошо, автомат в двух шагах.
– Алё, Лер, с праздником тебя. Вы чего такое творите?
– Ми-и-ша, – вот это «Ми-и-ша» в интерпретации Лерунчика не предвещало ничего хорошего, – ну вот, скажи, пожалуйста, какое твое дело?
– Лера, ну зачем же так, сразу…
– Слушай, Миш, – Лера сделала ощутимую паузу, очевидно, думая, как бы полегче закончить разговор, – это тебя не касается.
– Лер, ну нельзя же так!
– Иди ты. На хер, – спокойно и безразлично подытожила Лерка, и превратилась в противные короткие гудки в холодной пахнущей пластмассой трубке. «На» прозвучало с нажимом. «Н-на».
Третья рюмка едва влезла в глотку. Молчали. «Протопи ты мне баньку, хозяюшка…», – выводил Владимир Семенович из колонок за барной стойкой. Мужичок за соседним столиком разложил гвоздики и пытался связать их в веник коротким обрывком веревки. Получалось плохо. Мужичок беззлобно улыбался и продолжал макраме.
– Ты куда теперь? – свежий снег сладким крахмалом похрустывал под Пашкиными подошвами.
– Не знаю. А ты?
– А я знаю. Поехали!
У платформы слева свистели электрички, у платформы справа стучали метропоезда. Стемнело. В воздухе ощутимо висела предпраздничная суета. В кои-то веки задаренные цветами дамы, сопровождаемые ироничными и галантными рыцарями, тащившими туго набитые сумки, спешили по домам. Обрывки гудков, шум шин, хруст снега, высокие женские голоса, суета и толчея взбодрили Мишку. Ему – на краткий момент – показалось, что имеет он к этому самое непосредственное отношение; что это ни кто другой, а именно он возвращается домой – в теплый, розами и борщом пахнущий дом, где ждут, где визборовские «милая моя и чайник со свистком». Впрочем, иллюзия быстро выцвела, обернувшись лермонтовским сакральным, прямо под дых, «плохое дело в чужом пиру похмелье».