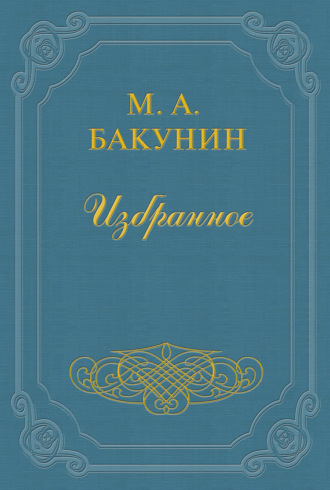
Михаил Бакунин
Анархия и Порядок (сборник)
Он вышел из животного рабства и, пройдя через божественное рабство, переходный этап между его животностью и человечностью, идет ныне к завоеванию и осуществлению своей человеческой свободы. Отсюда следует, что древность верования, какой-нибудь идеи далеко не является доказательством в их пользу и, напротив, должна сделать нас подозрительными. Ибо позади нас наша животность, а перед нами наша человечность, а свет человечности только один может нас согреть и осветить, только он может освободить нас, сделать достойными, свободными, счастливыми и осуществить братство среди нас, – он никогда не находится в начале, но по отношению к эпохе, в которой живут, всегда в конце истории. Не будем же смотреть назад, будем всегда смотреть вперед, ибо впереди наше солнце и наше спасение. И если позволительно, если даже полезно и необходимо оглянуться ради изучения нашего прошлого, так это нужно лишь для того, чтобы констатировать, чем мы были и чем мы не должны более быть; во что мы верили, и что думали, и во что мы не должны больше верить, чего не должны больше думать; что мы делали и чего не должны больше никогда делать.
Это относительно древности. Что же касается всемирности какого-нибудь заблуждения, то это доказывает лишь одно – сходство, если не совершенное тождество человеческой природы во все времена и во всех странах. И раз установлено, что все народы во все эпохи их жизни верили и верят еще в Бога, мы должны лишь заключить, что божественная идея, исходящая из нас самих, есть заблуждение, историческая необходимость в развитии человечества, и спросить себя: почему и как она произошла в истории, почему громадное большинство человеческого рода принимает ее еще и ныне за истину?
Пока мы не будем в состоянии отдать себе отчет, каким путем идея сверхъестественного или божественного мира возникла и должна была фатально возникнуть в историческом развитии человеческого сознания, мы никогда не сможем разрушить ее во мнении большинства, как бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи. Ибо мы никогда не сможем поразить ее в самых глубинах человеческого существа, где она родилась, и, осужденные на бесплодную борьбу без исхода и без конца, мы будем всегда вынуждены поражать ее лишь на поверхности в ее бесчисленных проявлениях, в которых нелепость, едва пораженная ударами здравого смысла, сейчас же возродится в новой и не менее бессмысленной форме. Пока корень всех нелепостей, терзающих мир, вера в Бога остается нетронутой, она никогда не перестанет давать новые ростки. Так в наши дни в некоторых кругах высшего общества спиритизм стремится утвердиться на развалинах христианства.
Не только в интересах масс, но и в интересах нашего собственного здравого смысла мы должны постараться понять историческое происхождение идеи Бога, преемственность причин, развивших и породивших эту идею в сознании людей. Сколько бы мы ни говорили и ни думали, что мы атеисты, пока мы не поймем этих причин, мы дадим господствовать над нами в большей или в меньшей степени голосу этого всеобщего сознания, тайну которого мы не познали, и ввиду естественной слабости даже самого сильного индивида перед всемогущим влиянием окружающей его социальной среды мы всегда будем рисковать рано или поздно вновь впасть тем или иным способом в бездну религиозной нелепости. Примеры этих последних обращений часты в современном обществе.
* * *
Я указал на главную практическую причину могущества, которое имеют еще и ныне религиозные верования над массами. Не столько мистические склонности, сколько глубокое недовольство сердца вызывает у них это заблуждение ума – это инстинктивный и страстный протест человеческого существа против узости, плоскости, страданий и стыда жалкого существования. Против этой болезни, сказал я, есть лишь одно средство: социальная революция.
В приложении я постарался изложить причины, которые обусловливали рождение и историческое развитие религиозных галлюцинаций в сознании человека. Здесь я хочу обсуждать вопрос о существовании Бога или Божественного происхождения мира и человека лишь с точки зрения его моральной и социальной полезности, и о теоретической причине этого верования я скажу лишь несколько слов, чтобы лучше пояснить мою мысль.
Все религии с их богами, полубогами, пророками, мессиями и святыми были созданы доверчивой фантазией людей, еще не достигших полного развития и полного обладания своими умственными способностями. Вследствие этого религиозное небо есть не что иное, как мираж, в котором экзальтированный невежеством и верой человек находит свое собственное изображение, но увлеченное и опрокинутое, то есть обожествленное.
История религий, история происхождения величия и упадка богов, преемственно следовавших в человеческом веровании, есть, следовательно, не что иное, как развитие коллективного ума и сознания людей.
По мере того как в своем прогрессивном историческом ходе они открывали в самих в себе или во внешней природе какую-либо силу, положительное качество или даже крупный недостаток, они приписывали их своим богам, преувеличив, расширив их сверх меры, как это обыкновенно делают дети игрой своей религиозной фантазии. Благодаря этой скромности и набожной щедрости верующих, легковерных людей небо обогатилось отбросами земли, и как неизбежное следствие, чем небо делалось богаче, тем беднее становились человечество и земли. Раз божество было установлено, оно, естественно, было провозглашено первопричиной, первоисточником, судьей и неограниченным властителем: мир стал ничем, бог – всем. И человек, его истинный создатель, извлекши, сам того не зная, его из небытия, преклонил колена перед ним, поклонился ему и провозгласил себя его созданием и рабом.
Христианство является самой настоящей типичной религией, ибо оно представляет собою и проявляет во всей ее полноте природу, истинную сущность всякой религиозной системы, представляющей собою принижение, порабощение и уничтожение человечества в пользу божественности.
Раз Бог – все, реальный мир и человек – ничто. Раз Бог есть истина, справедливость, могущество и жизнь, человек есть ложь, несправедливость, зло, уродство, бессилие и смерть. Раз Бог – господин, человек – раб. Неспособный сам по себе найти справедливость, истину и вечную жизнь, он может достигнуть их лишь при помощи божественного откровения. Но кто говорит об откровении, тот говорит о проповедниках откровения, о мессиях, пророках, священниках и законодателях, вдохновленных самим Богом. А все они, раз признанные представителями божества на земле в качестве святых учителей человечества, избранных самим Богом, чтобы направлять человечество на путь спасения, они должны неизбежно пользоваться абсолютной властью. Все люди обязаны им неограниченным и пассивным повиновением. Ибо перед Божественным разумом разум человеческий и перед справедливостью Бога земная справедливость – ничто. Рабы Бога, люди должны быть рабами и Церкви и Государства, поскольку оно освящено Церковью. Вот что христианство поняло лучше всех существовавших и существующих религий, не исключая и древние восточные религии, которые, впрочем, охватывали лишь народы благородные и привилегированные, между тем как христианство имеет претензию охватить все человечество. И из всех христианских сект римский католицизм один провозгласил это положение и осуществил его со строгой последовательностью. Вот почему христианство есть абсолютная религия и почему Апостольская Римская Церковь единственно последовательная, законная и божественная.
Пусть же не обижаются метафизики и религиозные идеалисты, философы, политики или поэты. Идея Бога влечет за собою отречение от человеческого разума и справедливости, она есть самое решительное отрицание человеческой свободы и приводит неизбежно к рабству людей в теории и на практике.
Следовательно, если только не хотеть рабства и оскотинивания людей, как этого хотят иезуиты, как хотят этого ханжи, пиетисты или протестанские методисты, мы не можем, мы не должны делать ни малейшей уступки ни Богу теологии, ни Богу метафизики. Ибо в мистическом алфавите, кто сказал А, должен сказать Z. И кто хочет поклоняться Богу, тот должен, не создавая себе ребяческих иллюзий, храбро отказаться от своей свободы и своей человечности.
Если Бог есть, человек – раб. А человек может и должен быть свободным. Следовательно, Бог не существует.
Пусть кто-либо попытается выйти из этого заколдованного круга! Делайте же выбор!
* * *
Нужно ли напоминать, насколько и как религии отупляют и развращают народы? Они убивают у них разум, это главное орудие человеческого освобождения, и приводят их к идиотству, главному условию их рабства. Они обесчещивают человеческий труд и делают его признаком и источником подчинения. Они убивают понимание и чувство человеческой справедливости, всегда склоняя весы на сторону торжествующих негодяев, привилегированных объектов божественной милости. Они убивают гордость и достоинство человека, покровительствуя лишь ползучим и смиренным. Они душат в сердцах народов всякое чувство человеческого братства, наполняя его божественной жестокостью.
Все религии жестоки, все основаны на крови, ибо все покоятся главным образом на идее жертвы, то есть на вечном обречении человечества ненасытимой мстительности Божества. В этой кровавой тайне человек все-гда жертва, а священник – также человек, но человек привилегированный милостью Божией – божественный палач. Это объясняет нам, почему священники всех религий, самых лучших, самых гуманных, самых мягких, имеют почти всегда в глубине своего сердца – а если не сердца, то воображения, ума (а громадное влияние того и другого на сердце людей известно), – почему? говорю я, – что-то жестокое и кровожадное.
* * *
Все это наши современные знаменитые идеалисты знают лучше, чем кто-либо. Это люди ученые, знающие историю назубок. А так как они в то же время живые люди, великие души, проникнутые искреннею и глубокою любовью к благу человечества, то они с несравненным красноречием прокляли и заклеймили все это зло, все преступления религии. Они с негодованием отвергают всякую солидарность с Богом позитивных религий и с ее былыми и нынешними представителями на земле.
Бог, которому они поклоняются или которого они представляют себе, поклоняясь, именно тем и отличается от реальных богов истории, что он вовсе не позитивный Бог и не Бог, каким бы то ни было образом определенный теологически или хотя бы даже метафизически. Это – не Высшее существо Робеспьера и Жан-Жака Руссо, – не пантеистический Бог Спинозы и даже не имманентный, трансцендентальный и весьма двусмысленный Бог Гегеля. Они весьма остерегаются давать ему какое-либо позитивное определение, прекрасно чувствуя, что всякое определение отдаст их в жертву разрушительной критики. Они не скажут о нем, личный это Бог или безличный, создал ли он или не создал мир. Они даже не станут говорить об его божественном провидении. Все это могло бы их скомпрометировать. Они удовлетворяются названием «Бог», и это все. Но что такое их Бог? Это даже не идея, а лишь – стремление души.
Их Бог – общее название для всего, что им кажется великим, добрым, прекрасным, благородным, человечным. Но почему же тогда не говорят они «Человек»? А дело в том, что и король Вильгельм Прусский, и Наполеон III – тоже люди, и это ставит их в весьма затруднительное положение. Существующее человечество представляет из себя смесь всего, что есть самого возвышенного, самого прекрасного в мире с самым низменным и чудовищным. Как же они справляются с этим? Одно они называют божественным, а другое животным, представляя себе божественность и животность как два полюса, между которыми они помещают человечество. Они не хотят или не могут понять, что эти три выражения, в сущности, представляют собою одно и что разделением они разрушают их.
Идеалисты не сильны в логике, и можно думать, что они презирают ее. Вот это-то и отличает их от пантеистических и деистических метафизиков и сообщает их идеям характер практического идеализма, черпающего свои вдохновения гораздо в меньшей степени из строгого развития мысли, нежели из опыта, я сказал бы, пожалуй, даже из эмоций, как исторических и коллективных, так и индивидуальных, – из жизни. Это дает их пропаганде видимость богатства и жизненной силы, но это лишь видимость, ибо сама жизнь делается бесплодной, когда она парализована логическим противоречием.
Это противоречие заключается в следующем: они хотят Бога и в то же время они хотят человечества. Они упорствуют в объединении этих двух понятий, которые, раз будучи разделены, не могут более быть сопоставлены без того, чтобы взаимно не разрушить друг друга. Они говорят, не переводя дыхания: «Бог и свобода и человек», «Бог и достоинство, и справедливость, и равенство, и братство, и благополучие людей», не заботясь о фатальной логике, согласно с которой, если существует Бог, все это осуждено на небытие. Ибо, если Бог есть, он является неизменно вечным, высшим, абсолютным господином, а раз существует этот господин, человек – раб. Если же человек – раб, для него невозможны ни справедливость, ни равенство, ни братство, ни благополучие. Они могут, сколько хотят, в противность здравому смыслу и всему историческому опыту представлять себе своего Бога воодушевленным самой нежной любовью к человеческой свободе, но господин, что бы он ни делал и каким бы либералом он ни хотел выказать себя, остается тем не менее всегда господином, и его существование неизбежно влечет за собою рабство всех, кто ниже его. Следовательно, если бы Бог существовал, для него было бы лишь одно средство послужить человеческой свободе – это прекратить свое существование.
Ревниво-влюбленный в человеческую свободу и рассматривая ее как необходимое условие всего, чему я поклоняюсь и что уважаю в человечестве, я перевертываю афоризм Вольтера и говорю: если бы Бог действительно существовал, следовало бы уничтожить его.
* * *
Строгая логика, диктующая мне эти слова, слишком очевидна, чтобы была нужда развивать больше эту аргументацию. И мне кажется немыслимым, чтобы знаменитые люди, названные мною, столь известные и столь справедливо уважаемые, не были бы сами поражены и не заметили противоречий, в которые они впадают, говоря одновременно о Боге и о человеческой свободе. Чтобы не считаться с этим, они должны полагать, что эта непо – следовательность или эта логическая несообразность была практически необходима для блага человечества.
Возможно также, что, говоря о свободе как о чем-то весьма почтенном и дорогом для них, они понимают ее совершенно иначе, чем мы, материалисты и социалисты – революционеры. В самом деле, они никогда не говорят о ней без того, чтобы не прибавить сейчас же другое слово: власть – слово и понятие, которое мы ненавидим всем сердцем.
Что такое власть? Есть ли это неизбежная сила естественных законов, проявляющаяся в сцеплении и в роковой последовательности явлений, как физического, так и социального мира? В самом деле, возмущение против этих законов не только непозволительно, но и невозможно. Мы можем не считаться с ними или не вполне еще знать их, но не можем не повиноваться им, ибо они составляют основу и самые условия нашего существования: они нас окружают, проникают нас, управляют всеми нашими движениями, нашими мыслями, нашими действиями таким образом, что даже, когда мы думаем, что не повинуемся им, в действительности мы лишь проявляем их всемогущество.
Да, мы, безусловно, рабы этих законов. Но в этом рабстве нет ничего унизительного, или скорее это даже не рабство. Ибо рабство предполагает наличность некоторого господина над нами, законодателя, стоящего вне того, кем он управляет, между тем как эти законы не вне нас – они нам присущи, они составляют наше естество, все наше естество, как телесное, так и умственное и нравственное. Лишь в силу этих законов мы живем, дышим, действуем, мыслим, хотим. Вне их мы ничто, мы не существуем. Откуда же взялись бы у нас возможность и желание возмутиться против них?
Перед лицом естественных законов для человека есть лишь одна возможная свобода – это признавать их и все в большей мере применять их сообразно с преследуемой им целью освобождения или развития, как коллективного, так и индивидуального. Эти законы, раз признанные, проявляют власть, никогда не оспариваемую большинством людей. Нужно, например, быть, сумасшедшим или теологом или, по крайней мере, метафизиком, юристом или буржуазным экономистом, чтобы возмущаться против закона, по которому дважды два – четыре. Нужно обладать верой, чтобы воображать, что не сгоришь в огне или что не потонешь в воде, если только не прибегать к какому-нибудь фокусу, который, в свою очередь, основан на каких-нибудь других естественных законах. Но это возмущение или скорее эти попытки больного воображения к бессмысленному возмущению представляют из себя лишь довольно редкие исключения. Ибо вообще можно сказать, что большинство людей в своей повседневной жизни повинуется почти беспрекословно здравому смыслу, т. е. всей совокупности общепризнанных естественных законов.
Великое несчастье в том, что большое количество естественных законов, уже установленных как таковые наукой, остается неизвестным народным массам благодаря заботам этих попечительных правительств, которые существуют, как известно, для блага народов. Есть еще другое неудобство – это то, что большая часть естественных законов, присущих развитию человеческого общества и столь же необходимых, неизменных, фатальных, как законы, управляющие физическим миром, самою наукою не установлены и не признаны должным образом.
Раз они будут признаны, сперва наукой и при посредстве целесообразной системы народного воспитания и образования войдут в сознание всех, вопрос о свободе будет совершенно разрешен. Самые упорные государственники должны будут признать, что тогда не будет нужды ни в организации, ни в управлении, ни в политическом законодательстве – в этих трех институтах, всегда одинаково пагубных и противных свободе народа, ибо они навязывают ему систему внешних и, следовательно, деспотических законов, хотя бы эти три института исходили от воли государя, или из голосования парламента, избранного на основе всеобщего избирательного права, или даже если они согласуются с естественными законами, чего, впрочем, никогда не было и быть не может.
Свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что он сам признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей – божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной.
Представьте себе ученую академию, составленную из самых знаменитых представителей науки; представьте себе, что на эту академию было бы возложено законодательство и организация общества и что, вдохновляясь лишь самой чистой любовью к истине, она диктовала бы обществу лишь законы, абсолютно согласные с новейшими открытиями науки. Я утверждаю, что это законодательство и эта организация были бы чудовищны. И это по двум причинам. Во-первых, потому, что человеческая наука по необходимости всегда несовершенна, и, сравнивая уже открытое ею с тем, что ей остается открыть, можно сказать, что если бы захотели заставить практическую жизнь людей, как коллективную, так и индивидуальную, строго сообразоваться исключительно с последними данными науки, то как общество, так и индивиды были бы осуждены на муки прокрустова ложа, которые их убили бы, ибо жизнь всегда бесконечно шире, чем наука.
Вторая причина такова: общество, которое стало бы повиноваться законодательству, исходящему из научной академии, не потому, что оно само поняло разумные основания их – а в таком случае существование академии стало бы бесполезным, – но потому, что это законодательство, исходя из академии, навязывалось бы во имя науки, которую чтят, не понимая ее, – такое общество было бы обществом не людей, но скотов. Это было бы вторым изданием несчастной Парагвайской Республики, которая долгое время позволяла управлять собою Ордену иезуитов. Такое общество не преминуло был вскоре опуститься на самую низкую ступень идиотизма.
Но есть еще третья причина, делающая такое правительство невозможным. А именно научная академия, облеченная, так сказать, абсолютною верховною властью, хотя бы она состояла даже из самых знаменитых людей, неизбежно и скоро кончила бы тем, что сама развратилась бы и морально, и интеллектуально. Такова уже ныне история всех академий при небольшом количестве предоставленных им привилегий. Самый крупный научный гений с того момента, как он становится академиком, официальным патентованным ученым, неизбежно регрессирует и засыпает. Он теряет свою самобытность, свою революционную смелость и эту не укладывающуюся в общие рамки дикую энергию, характеризующую самых великих гениев, призванных всегда к разрушению отживших миров и к закладке основ новых миров. Он, несомненно, выигрывает в хороших манерах, в полезной и практической мудрости, теряя в мощности мысли. Одним словом, он вырождается.
Таково уж свойство привилегии и всякого привилегированного положения – убивать ум и сердце людей. Человек, политически или экономически привилегированный, есть человек, развращенный интеллектуально и морально. Вот социальный закон, не признающий никакого исключения, приложимый одинаково к целым нациям, классам, сообществам и индивидам. Это закон равенства, высшее условие свободы и человечности. Главнейшая цель этой книги в том и заключается, чтобы развить этот закон и доказать истинность его во всех проявлениях человеческой жизни.
Научное учреждение, которому доверили бы управление обществом, кончило бы скоро тем, что стало бы заниматься не наукой, но совсем другим делом. И это дело, дело всякой установившейся власти, состояло бы в стремлении прочно укрепиться и сделать вверенное ее заботам общество более тупым и, следовательно, все более нуждающимся в ее управлении и руководстве.
Но что справедливо относительно научной академии, справедливо и относительно всех учредительных и законодательных собраний, даже вышедших из всеобщего избирательного права. Это последнее может, правда, обновить его состав, что не препятствует образованию в течение нескольких годов собрания политиканов, привилегированных не по праву, но фактически, которые, посвящая себя исключительно управлению общественными делами страны, кончают тем, что образуют род политической аристократии или олигархии. Пример – Соединенные Штаты Америки и Швейцария.
Таким образом, не надо никакого внешнего законодательства и никакой власти; одно, впрочем, неотделимо от другого, и оба они стремятся к порабощению общества и к отупению самих законодателей.
* * *
Вытекает ли из этого, что я отвергаю всякий авторитет? Такая мысль далека от меня. Когда дело идет о сапогах, я полагаюсь на авторитет сапожника; если дело идет о доме, о канале или о железной дороге, я советуюсь с архитектором или инженером. За тем или иным специальным знанием я обращаюсь к тому или иному ученому. Но я не позволю ни сапожнику, ни архитектору, ни ученому навязать мне их авторитет. Я свободно выслушиваю их со всем уважением, которого заслуживает их ум, характер, знания, сохраняя за собою во всяком случае мое неоспоримое право критики и контроля. Я не удовольствуюсь тем, что посоветуюсь с одним авторитетным специалистом, я посоветуюсь со многими. Я сравню их мнения и выберу то, которое мне кажется наиболее справедливым. Но я не признаю отнюдь непогрешимого авторитета даже в узкоспециальных вопросах. Следовательно, какое бы уважение я ни питал к честности и искренности того или иного индивида, у меня нет абсолютной веры ни к кому. Такая вера была бы роковою для моего разума, моей свободы и для успеха моего предприятия. Она меня немедленно превратила бы в тупого раба, в орудие воли и интересов другого.
Если я преклонюсь перед авторитетом специалистов и если я объявлю себя готовым следовать в известной мере и так долго, как мне это кажется необходимым, их указаниям и даже руководству, то это лишь потому, что их авторитет никем не навязан мне – ни людьми, ни Богом. В противном случае я отверг бы с ужасом и послал бы к черту их советы, их руководство и их знания, уверенный, что они заставят меня заплатить потерей моей свободы и моего достоинства за те окутанные массой лжи крупицы человеческой истины, какие они могут мне дать.
Я преклоняюсь перед авторитетом специалистов потому, что он мне внушен моим собственным разумом. Я сознаю, что могу охватить во всех деталях и в позитивном развитии лишь малую долю человеческой науки. Величайший ум недостаточен для того, чтобы охватить все. Отсюда следует для науки, как и для промышленности, необходимость разделения и ассоциации труда. Я получаю и даю – такова человеческая жизнь. Всякий является авторитетным руководителем, и всякий управляем в свою очередь. Следовательно, отнюдь не существует закрепленного и постоянного авторитета, но постоянный взаимный обмен власти и подчинения, временный и – что особенно важно – добровольный.
Это самое соображение не позволяет мне, следовательно, признать закрепленный, постоянный и универсальный авторитет, ибо не существует универсального человека, способного охватить все науки, все ветви социальной жизни со всеми богатыми подробностями, без которых приложение науки к жизни совершенно невозможно. И если такая универсальность могла когда-либо быть осуществлена одним человеком и если бы он захотел этим возвеличить себя, чтобы навязать нам свой авторитет, нужно было бы изгнать этого человека из общества, потому что его авторитет неизбежно свел бы всех других к рабству и тупости. Я не думаю, чтобы общество должно было дурно обращаться с гениальными людьми, как оно делало это до сих пор. Но я не думаю также, чтобы оно должно было слишком ублажать их и – особенно – наделять их привилегиями или какими-нибудь исключительными правами. И это по трем причинам. Прежде всего потому, что обществу не раз случилось бы принять шарлатана за гениального человека; затем потому, что этой системой привилегий оно могло бы превратить в шарлатана даже действительно гениального человека, деморализовать его и сделать глупцом; и, наконец, потому, что оно создало бы себе этим деспота.
Я резюмирую. Итак, мы признаем абсолютный авторитет науки, ибо наука имеет своим предметом лишь умственное, отраженное и, насколько лишь возможно, систематическое воспроизведение естественных законов, присущих как материальной, так и интеллектуальной и моральной жизни физического и социального мира, этих двух миров, составляющих в действительности лишь единый естественный мир. Помимо этой, единственной законной власти, ибо она разумна и соответствует человеческой свободе, мы объявляем всякую другую власть лживой, произвольной, деспотической и гибельной.
Мы признаем абсолютный авторитет науки, но отвергаем непогрешимость и универсальность представителей науки. В нашей Церкви – да будет мне позволено на минуту употребить это выражение, которое, впрочем, я ненавижу – Церковь и Государство для меня два заклятых врага, – в нашей Церкви, как и в Церкви протестантской, имеется глава, невидимый Христос, – наука. И подобно протестантам, будучи более последовательными, чем протестанты, мы не хотим терпеть ни папы, ни собора, ни конклава непогрешимых кардиналов, ни епископов, ни даже священников. Наш Христос отличается от протестантского и христианского Христа тем, что этот последний – существо личное, наш же – безличен. Христианский Христос, предвечно законченный, представляется как существо совершенное, между тем как законченность и совершенство нашего Христа, науки, всегда в будущем; другими словами, они не осуществятся никогда. Признавая же абсолютную власть лишь за абсолютной наукой, мы, следовательно, никоим образом не связываем свою свободу.
Под этими словами «абсолютная наука» я понимаю науку действительно универсальную, которая идеально воспроизводила бы во всей ее полноте и со всеми ее бесконечными деталями вселенную, систему или согласование всех естественных законов, проявляющихся в непрерывном развитии миров. Очевидно, что такая наука, верховный предмет всех усилий человеческого ума, никогда не осуществится в своей абсолютной полноте. Наш Христос останется, следовательно, вечно незаконченным, что значительно должно посбить спесь его патентованных представителей среди нас. Против этого Бога-сына, во имя которого они хотели бы навязать нам свой наглый и педантичный авторитет, мы будем апеллировать к Богу-отцу, который есть реальный мир, реальная жизнь, коей он есть лишь слишком нереальное выражение, а мы – реальные существа, живущие, работающие, борющиеся, любящие, надеющиеся, наслаждающиеся и страдающие, – непосредственные представители.
Но, отвергая абсолютный, универсальный и непогрешимый авторитет людей науки, мы охотно преклоняемся перед почтенным, но относительным и очень преходящим, очень ограниченным авторитетом представителей специальных наук; готовы советоваться с ними поочередно с каждым и весьма признательны за все ценные указания, которые они пожелают нам преподать при условии, что они соблаговолят принять наши советы относительно того, в чем мы более сведущи, чем они. И вообще, мы очень хотели бы, чтобы люди, одаренные большими знаниями, большим опытом, большим умом, а главное – большим сердцем, оказывали на нас естественное и законное влияние, добровольно принимаемое, но никогда не навязываемое, во имя какого бы то ни было официального авторитета – небесного или земного. Мы признаем всякий естественный авторитет и всякое воздействие на нас факта, но не права; потому что всякий авторитет и всякое влияние права, официально навязываемое нам, сейчас же превращается в угнетение и ложь, и в силу этого неизбежно – как это уже достаточно, я полагаю, доказано мною – приводит нас к рабству и нелепостям.
Одним словом, мы отвергаем всякое привилегированное, патентованное, официальное и легальное, хотя бы и даже вытекающее из всеобщего избирательного права, законодательство, власть и воздействие, так как мы убеждены, что они всегда неизбежно обращаются лишь к выгоде господствующего и эксплуатирующего меньшинства в ущерб интересам огромного порабощенного большинства.
Вот в каком смысле мы действительно анархисты.
* * *
Современные идеалисты понимают власть, авторитет совершенно своеобразно.[124]
Хотя и свободные от традиционных предрассудков всех существующих позитивных религий, они тем не менее придают идее власти божественный, абсолютный смысл. Эта их власть отнюдь не есть авторитет чудесно раскрытой откровением истины и не авторитет строго и научно доказанной истины. Они основывают ее на небольшом количестве псевдофилософской аргументации и на громадной дозе смутно-религиозной веры идеально абстрактно-поэтического чувства. Их религия есть как бы последняя попытка обоготворения всего, что является человеческим в человеке.







