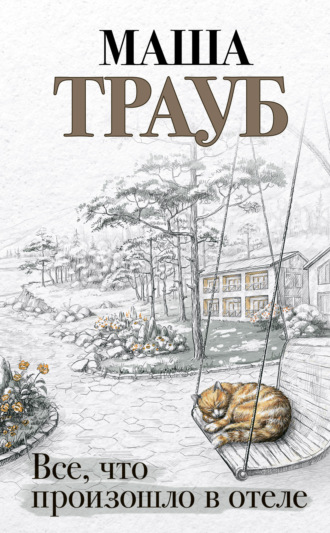
Маша Трауб
Все, что произошло в отеле
– Дорхенгер висел на двери? – строго спросила Светлана Петровна, заранее зная ответ. Галя опять перепутала номера. В данный момент она должна была находиться в двадцать первом номере, а не в двадцать втором. Гости, точнее гостья, выезжать не собиралась, и беспокоить ее в девять утра категорически запрещалось. Как и других постояльцев. Светлана Петровна устала вдалбливать в голову Гали правило: если приезжают с детьми, убрать надо утром, до часу дня, то есть до детского сна. Но дождаться, пока гости уйдут на пляж. Если молодая пара – раньше одиннадцати в номер стучаться не следует. Пусть поспят. Если супружеская пара со стажем и дочерью или сыном-подростком, нужно дождаться, когда номер покинут родители. Подростки даже от работающего под ухом пылесоса не проснутся.
Галя от вопроса про дорхенгер впала в ступор и смотрела на начальницу, будто та вдруг заговорила на птичьем языке.
– Ну конечно, вот он, на ручке шкафа. – Светлана Петровна подошла, сняла табличку с надписью «Просьба убрать номер». – Галя, ну сколько раз повторять… обращай внимание на дорхенгер.
Галя хлопала глазами и беззвучно открывала и закрывала рот. Видимо, странное, незнакомое слово вызвало в ее мозгу короткое замыкание, и умственная программа зависла надолго.
Старшая горничная, откровенно говоря, раньше всегда называла дорхенгер просто табличкой на двери. Но в последнее время она смотрела по телевизору кулинарные шоу, в которых распекают нерадивых поваров и рестораторов за то, что те не знают профессиональной терминологии, и решила шагать в ногу со временем. Как профессионал. И каждый вечер учила наизусть выписанные из интернета термины, принятые в гостиничном бизнесе. Память с годами стала уже не та, но Светлана Петровна была упрямой женщиной. При малейшей возможности старалась вставить в речь выученные слова, чтобы закрепить теоретические знания. Пока ей особенно удавались чек-ин и чек-аут. Стандартный двухместный номер с односпальными кроватями она гордо именовала «твин». Еще ей очень нравилось, как называется дополнительная кровать – «экстрабед». Остальные сотрудники никак не желали использовать профессиональный сленг, и старшая горничная решила включать в речь по одному термину в месяц, давая возможность стаффу привыкнуть. «Стафф» – Светлана Петровна называла сотрудников именно так. Про себя, конечно, не вслух. Один раз попробовала, обращаясь к Славику, на которого пожаловалась одна из гостей. Тот без всякой задней мысли попросил дамочку сбегать оплатить парковку, пока он будет выруливать со стоянки аэропорта. Женщина, заранее заказавшая и оплатившая трансфер, растерявшись от подобной наглости, сначала покорно сбегала и оплатила, а потом, придя в сознание, написала жалобу.
– Слава, если хотите попасть в стафф нашего отеля, вы должны соблюдать правила, – отчитывала водителя старшая горничная. Слава, как и Галя, был нанят совсем недавно, с испытательным сроком.
– Чё? Почему я стафф? – искренне не понял Славик.
– Стаффом на профессиональном языке называют персонал, то есть сотрудников отеля, ресторана, не важно, – терпеливо начала объяснять Светлана Петровна. – Вы же молодой человек. Должны как-то соответствовать времени… даже я стараюсь, учусь…
– Не, я ж просто не знал. Стаффы – это ж собаки. Стаффордширские терьеры. Красивые зверюги. Я ж собачник. Мечтаю завести стаффа. Вот накоплю денег… – объяснил Славик. – У меня сейчас ирландский волкодав. Добрый, зараза, как болонка. Только с виду страшный, здоровенный, как лошадь, жрет как конь, а сам – как ребенок. Ему бы только играть и нежничать. Наташка его боится. Он же дурында, подбегает и начинает обниматься. Поставит лапы на грудь и давай целовать, то есть облизывать. Один раз Наташку завалил. Та перепугалась.
– Наташку? Надеюсь, не нашего администратора? – строго уточнила Светлана Петровна.
– Ой… Я это… понимаю, что на работе нельзя… Харассменты всякие… Но вы не подумайте, у нас все серьезно. По взаимному согласию. Мы на работе не тискаемся. Ну почему нельзя-то? Где еще знакомиться? Она ж такая… Я как увидел, так и все. Вот только одна проблема – с Мурчиком у нее не заладилось. Он к ней ластится, а она шарахается. Если вы про гладилку, так это все из-за Мурчика. Наташка не может у меня. Мурчика боится. А он привык со мной спать, вот и заваливается. Я его выгонял, он скулит. Я ж не могу такое слышать. Ну и сами понимаете – какая личная жизнь? Эта орет, тот под дверью скулит. Вот и пришлось нам здесь… Вы это, Наташку не ругайте, моя вина. Если вам нужно эти ваши галочки в тетрадь поставить, так на меня ставьте.
– Вячеслав, простите, я ничего не понимаю. Мурчик – это кто? Какая гладилка? – У Светланы Петровны начала болеть голова. Все-таки Славик – находка для шпиона, честное слово. Под стать Наташке. Та еще трещотка, разболтает тут же. Надо бы ему намекнуть, чтобы научился держать язык за зубами. Про гладильную комнату, приспособленную под комнату для свиданий, Светлана Петровна не знала, даже не предполагала. И не узнала бы, не проболтайся он.
– Мурчик? Так волкодав мой! – радостно принялся объяснять Славик, не поняв, что сболтнул лишнего. – Я ж говорю, он ласковый, как кот. Голову мне на колени положит, лапы свои длиннющие сложит и мурчит. Ну точно вам говорю! Наташка на меня даже обиделась. Я сказал, что у Мурчика лапы длинные, красивые. Я ж не знал, что она по поводу своих ног комплексует. Решила, что я сравниваю. А я что, дебил? Она ж не псина, а женщина. Нормальные у нее ноги. Увесистые такие, икры толстые, ляхи пожамкать можно. Я люблю, когда увесисто, а не одни кости.
– Славик, избавьте меня от подробностей вашей личной жизни, – простонала Светлана Петровна. Голова болела уже нестерпимо. – Просто запомните. Клиент не должен бегать оплачивать парковку. Вы обязаны заправлять бак заранее, а не по дороге в аэропорт, как было с семьей, которую вы позавчера отвозили. Они написали плохой отзыв. Скажите спасибо, что я его первой увидела.
– А чё такого-то? Время было! – возмутился Славик. – Я ж спросил, они согласились!
– Да, согласились, потому что очень хотели доехать до аэропорта и улететь. А вы, так сказать, отвечали за первую часть их возвращения домой. Вы бы стали спорить с водителем или предпочли бы доехать в целости и сохранности? Если люди соглашаются на заправку и ведут себя крайне вежливо, это не значит, что им это нравится. Точнее, им это совсем не нравится! Та семейная пара… Они наши постоянные гости. Муж крайне нервный. Он в аэропорт приезжает за три часа. А в тот день у него случился гипертонический криз – давление шарахнуло из-за вашей заправки, которая не была запланирована. Жена еле успела дать таблетку. Вот и подумайте об этом, когда в следующий раз решите заправиться по дороге.
– Ну я ж не знал, что он больной.
– Вячеслав, мы долго работали, чтобы получить статус четырехзвездочного отеля. И этот статус не позволяет нашим сотрудникам проявлять самодеятельность. Или вы подчиняетесь требованиям, или я вас увольняю. Все, можете быть свободны, – подвела итог Светлана Петровна. – Не забывайте, что вы на испытательном сроке. До первой жалобы.
– А чё с гладилкой? – уточнил Славик.
– Не чё, а что, – устало поправила старшая горничная. – Ваша гладилка меня волнует меньше трансфера.
– Ну чё, круто, – обрадовался водитель.
Светлана Петровна принялась правильно дышать и массировать точку на кисти между пальцами. На одном из форумов говорилось, что этот способ поможет быстро снять раздражение и успокоить нервную систему. Вскоре она тяжело вздохнула – опять наврали, ничего не помогает. Славик с Наташкой точно два сапога пара.
«Чё?» – спрашивала сидевшая на ресепшен администратор Наташа, услышав незнакомое слово. Впрочем, сидела она где угодно, только не на своем рабочем месте. При этом, надо признать, обладала бесценным качеством: в ее внешности все было чересчур. Наращенные ресницы имели такую длину и густоту, будто она на каждый глаз посадила по пауку и те свесили свои лапки. Из-за этого Наташа моргала очень медленно и с некоторым усилием. Производимый эффект был завораживающим: с одной стороны, хотелось убедиться, что она сможет снова открыть глаза. С другой – в памяти представителей старшего поколения тут же возникали кукла Маша или Даша из детства, которые закрывали глаза, если их наклонить. Вот и Наташу хотелось вернуть в горизонтальное положение, чтобы помочь справиться с ресницами. Светлана Петровна замечаний Наташе не делала, поскольку видела в этом выгоду для отеля. Такие ресницы способны были привлечь только Славика, а ревнивые супруги клиентов с более изысканным вкусом могли не беспокоиться, что их благоверные засмотрятся на миловидную администраторшу. Хотя, если бы они узнали, какие мысли проносятся в головах мужчин, даже самых изысканных, при взгляде на Наташу, то сильно бы удивились. К ресницам прилагались губы, тоже чересчур. Не пельмени, конечно, но вполне внушительный «свисток». А также груди, не уступавшие ресницам и губам в смысле выхода за грань приличия. Впрочем, губы и грудь администратора имели природное происхождение, в чем поначалу сомневался даже Славик, а убедившись в обратном, слегка обалдел от радости. Хотя Наташа и сама страдала от данных природой прелестей. Грудь третьего размера, граничащего с четвертым, носить было тяжело. Спина к вечеру просто отваливалась, какой лифчик ни надень. А губы… Наташа имела самые обычные губы, за одним исключением – сильнейшей аллергией на любую помаду. Она заметила этот эффект еще в старших классах школы, когда тайком красилась – губы тут же вздувались. Классная руководительница Дарья Андреевна отправляла ее в туалет смывать помаду. Наташа плакала и клялась, что уже давно все стерла. Дарья Андреевна подходила, доставала носовой платок и нещадно терла Наташины губы, отчего те становились только больше и ярче. Позже, уже убедившись в эффекте, Наташа специально красила губы, придавая им нужную припухлость. Потом поняла, что ей хватает привлекавшей излишнее внимание груди, и перестала злоупотреблять помадой. И вот теперь, встретив Славика, снова начала красить губы и смывать. Чем больше они становились, тем сильнее Наташа нравилась Славику. Он просто с ума сходил. А ресницы? В отличие от груди, свои ресницы у Наташи были блеклые и редкие. Не накрасишь – так вообще смотреть страшно. А то, что чересчур, так это подруга Снежанка решила стать мастером по ресницам и практиковалась на Наташе. Не всегда получалось удачно. «Сделай натуральные», – просила Наташа. «Так и в чем тогда разница? Ты же не увидишь мою работу!» – отвечала Снежанка и лепила от всей души театральные, чтобы сначала ресницы, а потом все остальное.
Наташа была доброй, честной и искренней. Не имея собственных детей, она умилялась чужим. Тут же выдавала гостям, приехавшим с малышами, манежи, колыбельки, горшки разных цветов на выбор, велосипеды, самокаты, игрушки, шампунь без слез, детское пюре и прочее. Причем делала это с таким знанием дела, будто сама была или многодетной матерью, или прирожденным воспитателем в ясельной группе. Девочкам постарше она заплетала замысловатые косички, могла сделать прическу с разноцветными резиночками, накрасить ногти лаком, светящимся в темноте. Умела складывать из бумаги веера, кораблики, гадалочки, птичек и рыбок. Дети ее обожали. Никто не мог успокоить ребенка так, как делала это Наташа. Именно она настояла на покупке бустеров и детских сидений под разный возраст, рост и вес в машину, принадлежащую отелю, чем обеспечила еще один пункт дохода – трансфер. В машине всегда лежали влажные и обычные салфетки, запасные памперсы, вода, пакеты на случай, если кого-то начнет тошнить. Она же потребовала купить в ресторан несколько детских стульев для совсем малышей и подушки, которые можно было положить на взрослые стулья для детей постарше.
К тому же Наташа умела восторгаться чемоданами новых постояльцев, укладкой или маникюром гостьи… Она могла заметить, что руки семидесятилетней женщины выглядят молодыми, максимум на сорок, и показать свои для сравнения. Доверительно рассказать поджарому мужчине далеко за пятьдесят, как выглядит ее отец в том же возрасте. И продемонстрировать фотографию. Светлану Петровну эти моменты трогали до глубины души. Славик хохотал, узнав, что фотографии Наташа скачала из интернета. Обман? Возможно. Но каждому человеку хочется верить в то, что он лучше, моложе, умнее другого. Вот на фото старый дед, а он – еще хоть куда. Одногодки, между прочим. Наташа, сверившись с паспортом гостя, прибавляла несуществующему отцу лет десять. Тот не возражал. Когда об обмане узнала Светлана Петровна, то опять заплакала.
– Наташа… зачем ты так? – спросила она. – Это же… о личном нельзя обманывать…
– Почему? – удивилась Наташа. – Это всегда работает. Вы же сами говорили, что я – лицо отеля и от меня зависит, приедут к нам люди снова или нет. А они приезжают.
– Тебя это совсем не… коробит? – уточнила Светлана Петровна.
– Ну если бы у меня был отец, может, и коробило бы. Но его нет, так что… – Наташа пожимала плечами.
– Так нельзя, нельзя! – твердила Светлана Петровна и вдруг пустилась в длинный рассказ: – Когда умер мой отец, мне было четырнадцать, я чувствовала, что рухнула в яму, глубокую. До сих пор помню то ощущение. Пытаюсь выбраться, а меня засасывает глина. И я одна. Папы нет. Никто не может прийти на помощь. Я всегда была близка с отцом, даже ближе, чем с матерью. Может, поэтому и не смогла личную жизнь устроить. Никто не относился ко мне так, как отец. Я тогда плакала много дней, маме пришлось положить меня в клинику неврозов. Ну это сейчас бы так назвали, а в те времена… психушка, дурка. Помню тот момент. Мама будто выдохнула, избавившись от меня. Махала на прощание, улыбалась. Я стояла в палате у окна, она внизу, во дворе. Рядом гуляли по дорожкам настоящие психи, сумасшедшие. Они бормотали что-то себе под нос, размахивали руками, танцевали или застывали на месте, как статуи. А мама их не замечала. Она была такая счастливая, радостная, красивая. Вокруг – осенние листья. Мы с папой всегда осенью ходили в парк, искали самые красивые листья – красные, желтые с прожилками. Запах… Пахло опавшей листвой. А если поддеть ногой и пнуть, чтобы листья разлетелись, запах становился просто оглушительным. А еще можно посмотреть на небо – оно бывает совсем безоблачным, чистым, пронзительно-голубым. И сверху падают листья. Тебе на лицо. Мгновение острого счастья – этот кусок неба, мы с папой, стоящие задрав головы, падающие листья. Вот-вот лист попадет на лицо, но пролетает мимо. Я, как щенок, бегала и ловила листья, папа смеялся. Называл меня березкой. Я спрашивала: а кто он? Кустик? В его волосах всегда застревали ошметки леса, как он их называл. Я их снимала, смеясь, а через минуту папа опять стоял ну точно куст – то деревяшки в волосах застревали, то мошкара, то какие-то соцветия.
«Папа, ты кустик, что ли?» – спрашивала я, когда мы садились на скамейку. Папа говорил, «надо подставить носы солнцу». «Нет, я не кустик», – смеялся он. «Тогда ты дуб». – «Ну какой из меня дуб? Дуб, он о-го-го какой». – «Тогда ты ясень», – предлагала я. «Ну ладно, на ясеня согласен», – смеялся папа. Он любил придумывать рифмы. Мне волосы достались от мамы, к сожалению, тонкие и жидкие. Она, кажется, втайне завидовала папиной шевелюре и радовалась, когда он вдруг начал лысеть. Его кудри выпадали клочьями. Однажды я увидела, как он вытаскивает из стока ванной собственные волосы. Сток засорился, мама ругалась. Говорила, надо вызвать сантехника. Папа сказал, что вызовет. И вытащил из стока застрявшие волосы. Они все тянулись. Папа вытаскивал волосы и выбрасывал их в унитаз. И так – снова и снова. Он плакал. Я случайно подсмотрела. Это было страшно. Даже страшнее того дня, когда я оказалась в психушке. И до сих пор ничего страшнее в жизни не видела. Тот момент, когда папа доставал свои волосы из стока… Мама не замечала или не хотела верить, что у папы рак. Он худел на глазах, ничего не мог есть. Его тошнило. Каким-то образом он держался, дожидаясь, когда мама уйдет на работу. И только я, сидя под дверями ванной, слышала, как его выворачивает. «Все хорошо, ты же знаешь, что мама может даже яичницу испортить. Опять перепутала соль с перцем, наверное, – смеялся папа, выходя из ванной и обнаруживая меня сидящей в слезах под дверью. – Пойдем, сделаю тебе гренки».
Папа всегда делал мне гренки в духовке. Выкладывал колбасу, помидор, сверху посыпал сыром. Дожидался, когда сыр не просто расплавится, а покроется корочкой. Немного растекалось на противень, и именно эта корочка была самой вкусной. Папины гренки… я так и не смогла их приготовить для себя. Ни разу после его смерти.
Иногда мы спускались к реке покормить уток. Может, поэтому я осталась здесь так надолго? Благодаря уткам, воспоминаниям об отце? Тогда все кормили уток хлебом. Папа же заранее натирал на терке морковку, мелко резал яблоки. Говорил, что уток нельзя кормить хлебом, они от этого умирают. Но утки не умирали, в отличие от моего отца. Хватали хлеб, прямо как эти, местные… Дрались, ругались, спорили, забирали хлеб у птенцов. Однажды я увидела одинокого селезня – он плавал вдалеке от основного места. «Папа, он что, гадкий утенок?» – спросила я. «Нет, на гадкого утенка он не похож. Он прекрасный селезень», – ответил отец. «Его изгнали из стаи? Поэтому он один?» – уточнила я. «А может, он сам захотел уплыть? Может, он селезень, которому надоело общаться с себе подобными? Или ему захотелось остаться в одиночестве и подумать? А остальные ему мешают, потому что галдят и крякают?» – рассмеялся отец. «Пап, он же утка». Я посмотрела на отца, не зная, шутит он или говорит всерьез. С ним всегда так было.
Папа улыбнулся. Вот тогда я и поняла, что он умирает. Он был этим селезнем, который не хотел есть ни хлеб, ни морковку, ни яблоки, которые я ему бросала. Он хотел, чтобы его оставили в покое – в этой заводи, рядом с кувшинками.
«Пойдем?» – попросила я. Папа смотрел на селезня уже добрых полчаса. Я замерзла и хотела вернуться домой. «Да, конечно», – ответил он.
Мы дошли до лестницы. Обычно бежали вверх, споря, кто быстрее. Но тут папа остановился на первом пролете и показал вдаль.
«Смотри, как красиво», – сказал он. «Да, красиво», – ответила я, хотя вид был самым обычным. Папа тяжело дышал. «Хорошо, пойдем дальше».
Он прошел пролет и снова остановился. Рядом стоял пожилой мужчина с переносным транзистором на батарейках. Транзистор хрипел, кашлял, выплевывал старые мелодии. Папа завел о нем разговор. Пожилой мужчина тут же откликнулся. Они бы еще долго разговаривали, если бы мужчину не окликнула супруга, а я – отца. Они тяжело преодолели еще один лестничный пролет. «Пап, что с тобой?» – спросила я. «Просто в плохой физической форме», – отмахнулся он.
Мужчина, прощаясь, не просто подал ему руку, а немного приобнял, как отец обнимает сына.
Папа сгорел за два месяца. Сколько боли он вытерпел, я не знаю. Умер в больнице, не дома. На руках у медсестер или в одиночестве – не знаю тоже. Врачи говорили, что ничем помочь не могут, просили забрать. Но маме всегда было проще переложить ответственность на кого-то другого. Как случилось и со мной. Она не сидела на моей кровати, не держала за руку, не успокаивала, видя, как я безутешно оплакиваю отца. Она отвезла меня в психушку, а теперь стояла и махала. «Ну я же не врач, – объясняла она потом свое решение. – Там лучше знали, чем тебе помочь».
Мама искренне в это верила. Как и в то, что я, обколотая препаратами, смотрящая в пол, равнодушная ко всему окружающему, иду на поправку. Что мне куда лучше находиться в палате с привязанными к кроватям людьми, чем дома в своей постели. Что лучше есть разваренную перловку на завтрак и ее же на обед с той лишь разницей, что на обед кашу разбавляли мутным бульоном. Часто я оставалась без ужина из-за соседа по столу. Он считал, что нам в еду подсыпают яд, поэтому опрокидывал на пол содержимое и своей тарелки, и моей. Так он меня спасал, с его точки зрения. Новые порции нам не полагались. Пересесть за другой стол было запрещено.
Что можно простить близким людям? Говорят, что все. Но я не могу простить папе, что он ушел так рано и бросил меня. Не могу простить маме, что она заперла меня в психушке. Я очень старалась, ходила в церковь, молилась за маму, просила Господа научить меня прощению, но не могу – и все.
Мне уже много лет, мама умерла, но я до сих пор ее вижу там, под окнами клиники, стоящую в окружении психов. Там, в осенних листьях, которые так любил папа, которые были только нашими.
Он любил гулять по утрам… Отводил меня в детский сад, потом в школу и отправлялся на прогулку. Иногда брал с собой, приводя в садик уже после завтрака или ко второму уроку в школу. Он будто играл в шпионов, делая так, чтобы мое отсутствие и прогулы никто не заметил. Объяснял воспитательнице и учительнице, что мы проспали, каялся, что забыл – его очередь отводить дочь, приносил роскошный букет из кленовых листьев или каштаны для поделок на всю садовскую группу или класс. Папа умел быть невероятно обаятельным. Все женщины таяли от его нежности, трепетности. Мама, когда я уже пошла в третий класс, возмущалась, говорила, что я достаточно взрослая, чтобы ходить самостоятельно. Папа все равно меня отводил, после чего спускался в овраг и еще ниже – к реке. Я плакала, мечтая пойти с ним, а не на уроки, но он обещал, что принесет мне букет. И если не каждый день, то через день точно приносил букет из листьев, цветов. Уже поздней осенью к красным кленовым листьям он подкладывал цветы клевера. Как только они еще не отцвели? Иногда добавлял еловую ветку с шишкой. Не сорвал, явно подобрал. Я их ставила в старую турку, которую мама выбросила, а я вытащила из мусорного ведра. Эту турку когда-то купил папа, привез из Узбекистана, где был в командировке. Мама говорила, что турка неудобная – слишком длинная ручка, слишком узкое горлышко, да и сама кособокая. Все время кофе убегает. Поэтому и выбросила. Турка стала вазой для папиных листьев, клевера, одуванчиков.
Мама спокойно пережила смерть отца, а я – сорвалась. Я ее тогда возненавидела. Не понимала, как она может есть, спать, принимать душ, слушать музыку, куда-то ходить, веселиться… Будто ничего не случилось. Она жила дальше, а я не могла. Без папы. Мне повезло – в психушке я провела всего две недели. Потом научилась делать вид, будто все хорошо. Лишь бы не назад, туда, где ты превращаешься в овощ, где все продается и покупается, были бы деньги. Где насилуют, издеваются, унижают, наказывают… Просто так. Где мир рушится. И ты не знаешь, кто на твоей стороне – те безумцы рядом или считающиеся здоровыми людьми санитары, врачи, способные на чудовищные вещи. После психушки я перестала верить в людей. И в каждом искала что-то ненормальное, убедившись, что все вокруг – больные, включая мою собственную мать. Я видела, как самые родные люди отказываются от детей, мужей, жен. Это считалось нормальным. Им предлагали выход – отдать близких куда-то, иногда навещать, приносить апельсины и яблоки и уходить в свою жизнь. И они были благодарны за это. Некоторые приплачивали главврачу, чтобы подержать кого-то из близких еще неделю. Мне просто повезло. Маму заставили меня забрать. Больнице грозила проверка, для которой требовалась статистика по успешно излечившимся и выписавшимся. Я прекрасно подходила под эту категорию. Но и спустя две недели вернулась домой другим человеком. Похудевшей на пять килограммов. Там, в больнице, начала курить и научилась прятать таблетки, якобы их глотая. Я перестала верить в доброту людей, да и в людей в целом тоже. Я должна была смириться с горькой утратой, успокоиться. Но все получилось наоборот – не смирилась. Мать я ненавидела. И желала ей скорой смерти. Самой мучительной из всех возможных.
В детстве у меня был выраженный рвотный рефлекс. Шпатель во рту, чтобы проверить горло, лечение зубов – все заканчивалось жуткой рвотой. Вот там, в психушке, рвотный рефлекс мне и пригодился. Я выплевывала все принятые таблетки…
– Ну, значит, мне точно повезло. Не из-за кого было в психушку попадать, – выслушав рассказ Светланы Петровны, заметила Наташа.
Ее все любили – и дети, и взрослые. За искренность, точнее умение профессионально ее изобразить. Гостям она иногда рассказывала, что в одиночку воспитывает двоих детей, муж сбежал. Мать умерла, но у нее отличный отец. Помогает, с внуками гуляет. Только Светлана Петровна знала, что у Наташи нет и не было никаких детей, как и сбежавшего мужа и отца, ставшего прекрасным дедушкой. Мать была жива и здорова, с поправкой на возраст, конечно. И мечтала стать бабушкой. Наташа придумала себе легенду, другую жизнь для работы, в которую охотно верили клиенты. Да и Светлана Петровна, умевшая отличить ложь от правды по первой фразе, по взгляду, мимике, могла поклясться, что Наташа говорит правду. Прирожденный талант какой-то. Наташа говорила: «Моя настоящая жизнь не продается. На выдуманной я могу заработать». Что было правдой. Она за отдельную плату соглашалась посидеть с детьми, покормить с ними уток, порисовать. Ну а как не доверить родное дитя такой прекрасной женщине, заботливой матери и дочери? Она могла напомнить гостю про день рождения супруги и заранее заказать цветы или устроить сюрприз – ужин на берегу залива. Гости всегда оставляли щедрые чаевые. Светлана Петровна признавала, что Наташа – ценный кадр, без нее все рухнет окончательно, а найти такую же пройдоху вряд ли получится. Когда звонили новые гости, только Наташа могла их уговорить снять номер именно в их отеле. И возвращались даже те, кто был недоволен кухней, обслуживанием и прочим.
– Ты у них что, стокгольмский синдром развиваешь? – удивлялась старшая горничная. – Они же в прошлый раз жалобу написали, а теперь снова приезжают.
– Ну, может, они мазохисты? Или похудели после пребывания у нас и снова хотят? – смеялась Наташа. – Или просто любят писать жалобы.
На день рождения Светлана Петровна подарила ей настольный звонок – тот самый, как в старых фильмах, дзинькающий, если нажать на пимпочку. Наташа собиралась обидеться – мол, она что, собака – по команде прибегать? Хотя Светлана Петровна и в мыслях подобного не держала! Ну хорошо, держала. Наташа могла уснуть днем или ночью, если оставалась в ночную смену, и ее нельзя было добудиться, хоть из пушки стреляй. Ситуацию спасал водитель Славик, дзинькавший звонком. Он недалеко ушел от детей, которые норовили нажать на звонок, пробегая мимо и хватая из вазочки маленькие конфеты карамельки с разными вкусами – тоже, кстати, Наташина идея.
Впрочем, на звонок она быстро перестала реагировать.
– Ну как можно так дрыхнуть! – с долей зависти восклицала Светлана Петровна. – Наталья, у тебя нервы вообще есть?
– А чё я могу сделать? Сплю и сплю, – пожимала плечами та.
Впрочем, вернемся в тот день и к той истории, которая началась с Галиного вопля. Единственным человеком во всем отеле, которого не потревожили крики Гали, была та самая администратор Наташа. Даже те, кто жил в противоположном конце коридора, их слышали. Но приняли за крик чаек и снова уснули. И никто, кроме меня, не знал, что Наташа просто не могла услышать истошный крик, поскольку в отеле ее не было. А находилась она со Славиком в микроавтобусе, принадлежавшем гостинице. Так что хоть оборись, хоть обдзинькайся в звонок, не дозовешься.
– Галя, какого… ты сюда зашла? – спросила Светлана Петровна, выразившись крайне непрофессионально по форме, но верно по сути. – Твою ж мать! – Последняя реплика раздалась после того, как старшая горничная наступила на красное пятно на белом прикроватном коврике – такие лежали во всех номерах категории люкс.
После реплики Светланы Петровны Галя опять истошно заорала и голосила достаточно долго. Ей бы в певицы пойти, а не в горничные. Так держать ноту на одном дыхании…
В этот момент моя мама вскочила с кровати, накинула на себя банный халат и, матерясь, как грузчик, пошла выяснять, в чем дело. Я отправилась следом, поскольку давно не спала и мне было интересно, как будут развиваться события.
– Нет, ну вы вообще, что ли? – мама ворвалась в номер. – Просто невозможно! Я спать хочу! Можно, пожалуйста, заткнуться?
Светлана Петровна в этот момент рассматривала нечто красное, во что наступила белым, естественно, профессиональным сабо – обувью, которую носят врачи и повара. Старшая горничная купила себе такие и не могла нарадоваться.
Галя, которой она предложила приобрести такие же, заявила, что не «будет ходить в калошах», а Наташа ответила, что предпочитает каблуки. Про то, что на каблуках ее ноги кажутся длиннее и не такими увесистыми, она промолчала. Ноги были ее главным комплексом – простые крестьянские ноги с широкой лодыжкой, пальцами, очень далекими от совершенства, но соответствующими строению стопы, выраженными икрами и нависшими над коленями жировыми складками. Наташа понимала, что от природы никуда не деться. Ноги получились неудачными, и она всячески старалась сделать их тоньше и длиннее. Только недавно купила новые туфли – каблук десять сантиметров, а не семь с половиной, как обычно. К концу смены ноги гудели и отекали, но Наташа терпела ради Славика. Ей казалось, что он как-то по-другому смотрит на нее, когда она ходит на шпильках. Славик же, если бы его кто-нибудь спросил, честно ответил, что ему вообще все равно – на каблуках Наташа или в валенках. Он смотрел на ее бедра, объемные, внушительные, представляя, как вечером она на него навалится и прижмет этими бедрами к постели. А лодыжки? Вряд ли Славик представлял, где вообще находится эта часть тела. Сиськи видел, Наташины бедра его вообще сводили с ума, а то, что находилось ниже, не имело никакого значения. Славик давно понял, что любит женщин корпулентных. Правда, этого слова он не знал и вряд ли бы понял его значение. Но Наташка ему нравилась. Прям его типаж. Я же говорю: люди – идиоты. Почему им не приходит в голову просто поговорить о том, что кому нравится? Тогда и страдать не пришлось бы…
Светлана Петровна рассматривала красную субстанцию на своих профессиональных сабо и думала, чем ее смыть. Сабо тоже были новыми, как и туфли Наташи, и их было жалко.
– Это что, кровь? – ахнула моя родительница.
Я же говорю – это она во всем виновата. После этого замечания Галя снова заголосила. Если бы мама предположила, что пятно на ковре, например, от томатного сока, все было бы в порядке. Но нет. Мама переживала личную драму и хотела, чтобы окружающие страдали не меньше. Так что именно ее предположение про кровь плюс вопли Гали и запустили механизм этой истории. Следующей фразой родительница, так сказать, залакировала ситуацию:







