
Маша Левина-Паркер
Мастер серийного самосочинения Андрей Белый
Повторение мотива в серии
Серийность прозы Белого подсказывает еще один вид повторения: повторение в серии, или серийное. Важнейшим из таковых является повторение в серии мотива. Основные автобиографические мотивы постоянно повторяются в прозе Белого. Белый говорил об орнаментальности как теме в вариациях – имея в виду, надо полагать, вариации в пределах одного произведения. Но в своей работе он с тем же постоянством применял и серийные повторы мотивов. В его автофикциональной серии развитие тем в вариациях становится естественным образом еще более сложным и многомерным.
Мотив, как уже отмечалось, сам является лишь одним из измерений авторского Я, а в серии ряда текстов мы видим все новые измерения этих измерений, новые повторения повторений. Если орнаментальность – тема в вариациях, то мотивное повторение в серии создает вариации вариаций, орнаментальность, возведенную в степень.
Репетиция, или инверсивное повторение
Репетиция развязки – особый способ повторения
Литературоведение не проводит различия между прямым мотивным повторением и мотивным повторением как таковым: один из вариантов приравнивается к понятию в целом. Но возможна, а главное, реально существует, и принципиально другая версия приема – репетиция, то есть повторение обратное.
Мотивное повторение обычно строится как возвращение – с большей или меньшей вариативностью – к какому-то изначальному элементу, будь то детство героя, событие или конфликт. Повторение поэтому всегда предполагает наличие истока или начала, находящегося вне системы повторений, но конституирующего ее и задающего ее состав и функционирование. Такой исходный пункт является как бы «оригиналом», а последующие повторения – его приблизительными копиями.
Исследование происхождения мотивной структуры от истоков мотива, от «оригинала», становится исследованием этимологии повторения. Такой тип исследования целесообразен в случае совпадения исходного мотива с исходным пунктом фабулы и дальнейшего совпадения мотивного развития с развитием героя, когда повторяющиеся эпизоды действительно служат прозаическим эквивалентом рифмы, скрепами, обеспечивающими связность и цельность произведения. Такова суть прямого повторения – но не всякого повторения.
Развиваемый здесь подход заключается в том, что существует и другой тип повторения, предоставляющий своему исследователю как предмет изучения этимологию «повторения наоборот». В этом случае оригинал повторений – пусковой механизм мотивной системы, отражаемый зеркалами повторений – тоже отчетливо задан. Однако место, отведенное для него автором, вопреки законам жанра и ожиданиям читателя, находится не в начале, а в конце повествования. Это не исток, а пункт назначения – не точка, от которой отталкивается, а точка, к которой тянется повествование. При такой конструкции повторения оказываются не воспроизведениями изначального, а как бы репетициями предстоящего.
Тексты Белого и Набокова являются версиями репетиционной конструкции.
В случае автономности мотивной структуры, ее несовпадения с фабульным рядом произведение скрепляемо двумя либо безразличными друг к другу, либо разнонаправленными последовательностями текстуальных элементов. Тогда, если продолжить метафору Шкловского, пересечение и сталкивание рядов разнородных «рифм» создает разноголосицу, предустановленная гармония уступает место диссонансу, и завершенная романная организация сменяется открытой структурой.
Репетиции ностальгии Набокова
Репетиция – особенное слово в словаре Набокова. Он пользуется им по-разному. В школе, в которую ходит Лолита, проводятся репетиции в обычном смысле. В других случаях репетиция становится метафорой: Марта и Франц («Король, дама, валет») хотят хоть один вечер «пожить так, как они потом заживут, устроить генеральную репетицию уже недалекого счастья»148. Наконец, в случаях особо для нас интересных, репетиция вырастает в философический образ, связывающий времена, сиюминутное с бесконечным. В «здесь и сейчас» Набоков может разглядеть репетицию того, что судьба назначила на далекое будущее – так строятся некоторые его мотивные повторения. Набоков показывает, более откровенно, чем Белый, в чем прием – он же подсказывает и название: репетиция.
Наглядный пример набоковской репетиционной мотивной структуры – «Подвиг». Детство Мартына (насыщенное деталями из «совершеннейшего, счастливейшего детства» Набокова), его отрочество и юность прошиты сериями мотивов, не возвращающих – в переосмысливающем и нюансирующем движении – к своему исходному оригиналу, а «репетирующих» в своем повторении ключевой и заключающий мотив (вынесенный за пределы мотивной системы), основное событие фабулы, подвиг Мартына (вынесенный за скобки романа). Мотивная структура в набоковской конструкции сопровождает и поддерживает фабульную структуру. При этом мотивное время движется в сторону обратную фабульному времени: мотивы романа исходят из развязки и как бы движутся от нее – к началу, «репетируя» на всем протяжении романа намеченное в итоге «представление».
В «Других берегах» Набоков обнажает прием: две серии повторений являются сериями репетиций двух главных событий в жизни героя, изгнания с родины и потенциального возвращения. В автобиографическом произведении прием репетиции мотивирован работой памяти повествователя, оглядывающегося на прошлое. Многочисленные описания и перечисления вещей, людей и событий из детства рассказчика – репетиция предстоящей взрослой ностальгии изгнанника. В следующем перечислении подчеркнуто существование «рисунка» репетиции:
Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения <…> – все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе149.
Рисунок детства здесь еще может восприниматься как психологически мотивированный, как тоска изгнанника по прошлому и «совсем старой русской литературе». Заметно стремление Набокова – в союзе с прирученной Мнемозиной – придать своему прошлому эстетически осмысленный характер. Отсюда и уподобление фактов прошлого различного рода артефактам – орнаменту на ивернях глиняной посуды, волшебно-тканному персидскому ковру150.
В другом отрывке обратное повторение ретроспективностью не мотивируется; наоборот, природа репетиции намеренно обнажается:
На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами <…> в детской моей постели я, бывало, поворачивался на живот – и старательно, любовно, безнадежно <…> пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком <…> – и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты- психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!151
Сходным образом, как вербализация приема, репетируется и возвращение:
Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго – целый год – за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину – опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого, как будто, и требует музыкальное разрешение жизни152.
Здесь, как и в «Подвиге», «представление» как кульминация репетиций, то есть конституирующий момент мотивной цепочки, вынесено за скобки мотивной системы (и жизни автора). Заметим, Набоков подсказывает еще одно важное слово: представление. Репетиции – подготовка представления. И тут же он напоминает: представление, как бы тщательно оно ни готовилось, может не состояться.
Репетиции распятия Белого
Примеры репетиции у Набокова помогают выделить повествовательный механизм. Он аналогичен тому, как обратная перспектива мотивной структуры создается у Белого. Именно по принципу инверсивного повторения развивается в романах Белого один из самых важных для его жизнетворчества мотивов.
Согласно воспоминаниям, в существенной части воспроизводимым в романах о детстве, уже в возрасте пяти лет Боренька остро почувствовал в Иисусе Христе родственную душу:
<…> В страданиях Иисуса мне была брошена тема страданий безвинных; и я осознал в Иисусе тему моих безвинных страданий у нас в доме <…> я тотчас же заиграл в подражание Христу <…>.
До сих пор страдания мои были ножницами: две линии растаскивали меня; теперь мне был показан крест, то есть возможность как-то сомкнуть ножницы; воскресение через крест, вероятно, я воспринял символом воскресения моей маленькой жизни чрез нахождение какого-то смысла моих страданий; я стал забираться в темные уголки и там тихо плакать, жалея себя, маленького, несправедливо преследуемого матерью за «второго математика»; я здесь хожу и таю свои муки; «они» не понимают меня, как законники не понимали Иисуса; но я теперь имею смысл: даже, если распнут меня, я, маленький, воскресну; и для этого надо прощать им «грехи» <…> «преступник» во мне <…> оказывается, такой же преступник, как Иисус <…> и я, бывало, вздыхал:
– Боже, прости маму: не ведает, что творит153.
«Игра в подражание Христу», о которой автор тут рассказывает, началась у него в раннем детстве и продолжалась всю жизнь. В 1930 году, пятидесятилетний, он пишет Иванову-Разумнику: зачем мне надевать «терновый венец, уготованный не мне; и свой есть»154. Судя по такой разборчивости, видимо, у него было не просто общее чувство обреченности, но даже и довольно отчетливое представление о своем, не похожем на другие, распятии. В стихах – ощущение того же венца: «Иглы терний – Рвут лоб»155. О том, что идея эта была глубоко укоренена в самосознании Андрея Белого, свидетельствуют и его современники. Ходасевич рассказывает о любопытном эпизоде на прощальном эмигрантском ужине перед отъездом Белого в советскую Россию: «За этим ужином одна дама <…> неожиданно сказала: “Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком”. В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас “пойти на распятие”. Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил»156. Цветаева пишет о своем восприятии Белого: «Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а от- рожденной: бедой своего рождения в мир»157. Она не говорит слов о его кресте, но «занят бедой своего рождения в мир» – возможно, точнее передает его мироощущение (и ее ощущение), что пребывать в этом мире было для него тяжким крестом, который он нес.
Присущее Белому представление о своем мученическом пути к распятию за грехи мира – по образу и подобию крестных мук Христа – порождает в его творчестве лейтмотив обреченности и страданий, предчувствия предначертанного и ему тоже христоподобного пути с неотвратимым финалом распятия.
Как у Набокова воплощению личной темы обреченности на изгнание и невозвращение, так у Белого воплощению личной темы обреченности на крестный путь – служит повествовательная стратегия мотивной репетиции.
Белому было свойственно видеть в себе страдальца, несущего в гору тяжкий крест грехов человеческих. В этом его мифе о себе причудливо отражаются и отношения с большим миром, и отношения с близкими ему людьми, и отношения с собой. Анализ его произведений с точки зрения серийности позволяет выделить автофикциональную «серию распятий» и проследить, как мотив распятия развивается (будем следовать хронологии создания произведений) от «Петербурга» через дилогию о Котике к Московской трилогии. Грани пути к распятию существенно меняются по мере вызревания в авторе образа его жизненного пути.
Автофикциональный мотив-инвариант серии (обреченность) воплощается инвариантом серийного мотивного повторения (обратным повторением). Версиями такой репетиционной конструкции являются романы Белого. Эти самосочинения строятся, разумеется, не одинаково.
Репетиции казни в «Петербурге»
Мотив отцеубийства является основным в «Петербурге». По мере прояснения смысла «ужасного обещания» Николая Аблеухова становятся все более очевидными репетиции приближающейся развязки. Одновременно это и мотив будущей казни отца, и духовной казни, как выясняется, самого Николая Аполлоновича, а, следовательно, и автобиографический мотив – казни автора. Отцу и сыну «иногда становилось жаль обрывать обеденный разговор, будто оба они боялись друг друга; будто каждый из них в одиночку друг другу сурово подписывал казнь»158. Так слово казнь появляется в романе. Но здесь это только метафора, и то, что она не случайна, читателю пока не ясно. Символизм ее проступает не сразу.
В «Петербурге» кульминация готовится по мере развития повествования репетициями взрыва бомбы в конце романа. Репетиции казни в романе многочисленны. Это и возникающие в воображении сына, Николая Аполлоновича, болезненно-яркие образы убийства «молодым негодяем» немощного старика-отца, и его рефлексия по поводу отцеубийственного обещания, и повторяющиеся у него психические и даже «физиологические» ощущения его собственного разлетания на куски: «разлетался я, как бомб…» «На части!..»159, и взрыв Коленьки- бомбы в его сне («Николай Аполлонович понял, что он – только бомба; и лопнувши, хлопнул <…>»160), и возвращения его детских «кошмаров» – взрывающихся «бредов», и мысленные картины с бомбой, одушевляющейся и персонализирующейся в лопающемся Пепп Пепповиче Пеппе. Репетициями казни выступают в романе и выпрыги сознания отца, Аполлона Аполлоновича, из его бренного, обреченного партией, охранкой и сыном-негодяем на растерзание тела, и ощущения разрывания его больного сердца во время приступа, спровоцированного появлением красного домино на балу у Цукатовых, и звуковые галлюцинации сенатора в виде приближающихся к нему металлических, грозных ударов, раздробляюших все.
Взрыв фигурально уничтожает, разносит в клочки, прежние ипостаси и сенатора Аблеухова, и его сына. Явление Аполлона Аполлоновича сразу после взрыва дано в виде отдельных фрагментов метафизически растерзанного бомбой тела: «<…> отчетливо врезались: поворот головы, потный лоб, губы, бачки и глаз <…>»161. Кульминационный момент взрыва и символического распада личности сенатора подготовлен многочисленными лейтмотивами телесной и личностной фрагментарности, которые от начала до конца пронизывают роман образами автономных частей тела «гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта»: циркулирующими по проспектам Петербурга усами, носами, плечами, спинами, котелками, фуражками, калошами.
Явление Николая Аполлоновича сразу после взрыва выглядит так:
– «Ааа… ааа… ааа…»
Он упал перед дверью.
Руки он уронил на колени; голову бросил в руки <…>162.
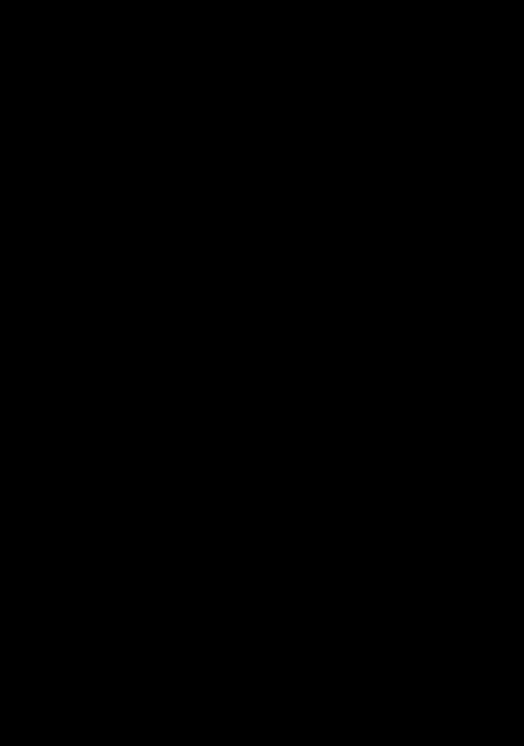
Впечатление фрагментарности создается гротескной отдельностью и как будто вещностью и объектностью частей тела – рук, коленей, головы: «руки уронил», «уронил на колени», «голову бросил». И оно усиливается марионеточной раздерганностью судорожных, как бы предсмертных движений тела.
Взрыв бомбы и распадение личностей двух главных героев репетируется в романе, с одной стороны, сквозными мотивами «звякающей металлическим звуком», а позднее «тикающей» «сардинницы ужасного содержания» и мотивами «умственной бомбы», провокации, отцеубийства, предательства. С другой стороны, представление репетируется отчасти пародийными лейтмотивами страдающего бога: страданий Николая Аполлоновича из-за недостаточной метафизичности того, что называется «житейские мелочи», и «всяких невнятностей, называемых миром и жизнью»163, из-за своих отцеубийственных мыслей, бесплодных вожделений плоти, мыслительных «ахиней» – и лейтмотивами страданий Аполлона Аполлоновича, вызванных бегством жены, проделками «негодяя-сына», нестройным роением событий, несимметричностью и неперпендикулярностью дел в Империи, а больше всего – собственной «скверной».
Как бы то ни было, само представление срывается и оказывается квазиразвязкой. В эпилоге даны картины своеобразного воскрешения – душевного и духовного обновления Аполлона Аполлоновича и Николая Аполлоновича.
Тема распятия как такового в «Петербурге» лишь намечается. Однако уже в нем есть несколько сцен, непосредственно отсылающих к христианскому распятию. Когда сенатор, морально раздавленный скандальным поведением сына в облике красного домино, разбирает бумаги перед скоропостижным уходом в отставку, предстает ему видение. Видится сенатору, как в пылающем огне камина проступает вдруг фигура распятого на кресте сына:
<…> побежал, расширяясь, камин, превращался в каменный и темничный мешок, где застыли <…> пламена, темно- васильковые угарные газы и гребни: в опрозраченном свете – там сроилась фигура <…>.
Что это?
– Вот – страдальчески усмехнувшийся рот, вот – глаза василькового цвета, вот – светом стоящие волосы: облеченный в ярость огней, с искрою пригвожденными в воздухе широко раздвинутыми руками, с опрокинутыми в воздухе ладонями – ладонями, которые проткнуты, —
– крестовидно раскинутый Николай Аполлонович там страдает из светлости светов и указует очами на красные ладонные язвы; а из разъятого неба льет ему росы прохладный ширококрылый архангел – в раскаленную пещь… – 164
Это один из немногих эпизодов в «Петербурге», изображающих распятие протагониста на кресте и к тому же подающих страдания Николая Аполлоновича в серьезной и даже трагической перспективе. Но и этот эпизод не вполне свободен от насмешливо-снижающих коннотаций. В романном времяпространстве эта сцена происходит параллельно сцене начинающегося рукоприкладства (которое, правда, тоже срывается), чинимого обезумевшим подпоручиком, в конце которой сам Аблеухов-младший переживает момент богоподобия. Вот как выглядит символическое распятие Николая Аполлоновича в кабинетике Лихутина:
– «Я, Сергей Сергеевич, удивляюсь вам… Как могли вы поверить, чтобы я, чтобы я… мне приписывать согласие на ужасную подлость… Между тем как я – не подлец… <…>»
<…>
Из теневого угла, будто сроенная, выступала гордая, сутуло- изогнутая фигура, состоящая, как подпоручику показалось, из текучих все светлостей, – со страдальчески усмехнувшимся ртом, с василькового цвета глазами; белольняные, светом стоящие волосы образовали опрозраченный, будто нимбовый круг над блистающим и высочайшим челом; он стоял с разведенными кверху ладонями, негодующий, оскорбленный, прекрасный, весь приподнятый как-то на кровавом фоне обой <…>165.
Само по себе описание не содержит иронических обертонов и во многом дословно совпадает с описанием распятого Коленьки в видении сенатора. Пародийной мизансцену делают предшествующие ей и следующие за ней трусливые движения души и тела героя. Предшествующее «распятию» смехотворное поведение Николки, превратившегося в «комочек из тела», который от страха семенит на подогнутых ножках, создает весьма драматический контраст с позой богочеловека, принимающего смерть на кресте. Правда, в самый момент телесной «крестовидной раскинутости» своей он пытается и духовно подняться до христоподобия: «<…> Николай Аполлонович, освободившись от грубого, животного страха, стал и вовсе бесстрашным; и более: в ту минуту от даже хотел пострадать <…>»166. Но последующие ощущения «распинаемого» вновь пародийно сдвинуты по отношению к христианскому прототипу:
Из разрыва же «я» – ждал он – брызнет слепительный светоч и голос родимый <…> – изречет в нем самом: для него самого:
– «Ты страдал за меня: я стою над тобою».
Но голоса не было. Светоча тоже не было.
И чуть ниже:
Почему ж не было примиренного голоса: «Ты страдал за меня?» Потому что он ни за кого не страдал: пострадал за себя… Так сказать, расхлебывал им самим заваренную кашу из безобразных событий. Оттого и голоса не было. Светоча тоже не было167.
В потуги уподобиться Христу диссонансом вкрадываются здесь ощущения разорванности, а в цепочку христианских символов – языческие символы ритуального расчленения. Вкупе с оторванной от Коленькиного сюртука фалдой они пародийно отсылают к растерзанию языческого бога: «<…> ощутил себя отданным на терзанье героем, страдающим всенародно, позорно; тело его в ощущениях было – телом истерзанным; чувства ж были разорваны, как разорвано самое “я” <…>». И далее: «<…> привезли насильно сюда, протащили – проволокли в кабинетик: насильно; и – оторвали здесь, в кабинетике, сюртучную фалду <…>»168.
Образы растерзания божества на части возникнут снова уже в финальной сцене, изображающей отца и сына после взрыва.
Образы христоподобия в этом романе крайне редки. Среди них образы крестовидной распластанности на стене. В сцене не состоявшегося избиения изображается «Николай Аполлонович, распластавшийся на стене»169. За триста с лишним страниц до этого Дудкин, описывая Николаю Аполлоновичу свои мучения и приступы болезни на чердаке, говорит: «<…> любимая моя поза во время бессонницы, знаете, встать у стены да и распластаться, раскинуть по обе стороны руки <…>. Я так простаиваю, Николай Аполлонович, часами <…>»170. Своими навязчивыми идеями Белый поделился не только с сенаторским сыном и сенатором, но и с Дудкиным.
Вероятно, время написания «Петербурга» было временем вызревания мифа Белого о самом себе как страстотерпце, шествующем на Голгофу во искупление принятых на себя грехов мира.
Тема распятия, за исключением нескольких отнюдь не центральных эпизодов, строго говоря, в явном виде не присутствует в романе. В «Петербурге» тема, можно сказать, лишь прорастает и намечается. Однако выстраивающаяся в последующих текстах серия распятий протагониста ретроспективно отсылает к зачаточному ростку темы в «Петербурге» и регрессивно активирует в нем сеть связанных с нею значений. В «Петербурге» есть намеки – не самые прозрачные – на подготовку того, что больше похоже на растерзание языческих божков, чем на христианские мотивы распятия. Николай Аблеухов предстает внешне подобным богу, не полноценным богом – но все же. В сне героя и в пародии на софийный миф очевидна более серьезная перекличка с темой древних богов, хотя и там она пародийно снижается. В переживаниях героя заметен, хотя не слишком выражен, мотив страданий и даже обреченности – в общем виде, без христианской окраски.
Репетиции казни отца более определенно связаны с мотивом богоубийства. Аполлон Аполлонович ближе, чем его сын, к богам, что особенно наглядно проявляется в сне героя, где отец выступает в образе то Сатурна, то Хроноса, то бога вообще. Автобиографичность тут заключается не только в том, что Белый наделяет сенатора некоторыми внутренними свойствами своего отца – он его наделяет и некоторыми своими свойствами.
В целом в «Петербурге» обозначена, пусть и не слишком отчетливо, тема убийства богов, но эти боги ассоциируются, пожалуй, скорее с язычеством, чем христианством. Все это наводит на мысль, что когда писался «Петербург», тема христианского распятия еще не вполне сложилась у Белого. Правда, необходимы оговорки. Богоубийство больше относится к Аполлону Аполлоновичу, в котором трудно разглядеть Христа, и если это бог, то скорее языческий. Но вот Николай Аполлонович – предатель, что сближает его с библейским Иудой.
Финальное представление в «Петербурге» оборачивается пародией. Не вполне состоявшаяся развязка дана главным образом вне христианской символики и, как уже говорилось, скорее приближается к модели растерзания языческих богов171. Языческие значения тоже не даны впрямую, но намечены: они в мотиве принесения в жертву ведомых на заклание отца и сына, они брезжут в финальных образах телесной их фрагментированности, на них намекают языческие аллюзии сна сына, наконец, к ним достаточно прямо отсылает разговор Николая с Дудкиным о бомбе и ощущениях разрываемого на части тела:
– «А теперь я все понял: но ведь это – ужас, ведь ужас…»
– «Не ужас, а подлинное переживание Диониса: не словесное, не книжное, разумеется… Умирающего Диониса…»172



