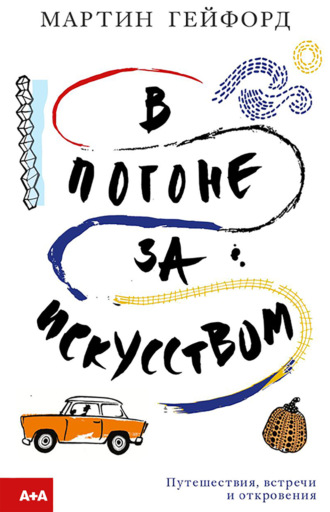
Мартин Гейфорд
В погоне за искусством
3. Аудиенция у Марины Абрамович
Добраться до художницы Марины Абрамович, мастера перформанса, оказалось непросто; в некотором смысле почти так же сложно, как до Бесконечной колонны Бранкузи. Я работал корреспондентом на Венецианской биеннале, и одна газета поручила мне взять у Абрамович интервью, пока я там нахожусь, – но для этого художницу еще надо было найти. Она остановилась на верхнем этаже огромного венецианского палаццо, спрятанного в лабиринте переулков, и отыскать его по адресу было нелегко. Вдобавок она выключила мобильный телефон.
Я довольно долго бродил в полной растерянности по этим венецианским закоулкам. И уже был готов сдаться, когда она наконец взяла трубку. Оказалось, что я стою на заднем дворе нужного мне ренессансного здания. Через минуту, сияя улыбкой, появилась она сама: «Вы гений, если сумели найти это место».
Марине Абрамович тоже пришлось пройти длинный путь, и куда более сложный, чтобы достигнуть своего нынешнего статуса, который она сама иногда определяет как «бабушка перформанса». Она родилась за шестьдесят три года до нашей встречи, в 1946 году, в Белграде, который был столицей социалистической Югославии. Оттуда она переехала в Западную Европу в 1975 году и стремительно приобрела известность как звезда нового международного движения – искусства перформанса.
Почти во всем, что она делала, было задействовано ее собственное тело, часто полностью открытое взглядам и переживающее физически мучительные ситуации. Во имя искусства она резала себя ножом, едва не умерла от удушья, а однажды проголодала двенадцать дней, живя на глазах у публики в одной из галерей Нью-Йорка; также бичевала себя и, обнажившись, лежала на льду.
Список этих мучений можно продолжить. И хотя ее творчество по природе эфемерно, но на протяжении многих лет ее престиж постоянно возрастал. Через год после нашей встречи ее работы стали предметом первой в истории ретроспективы перформанса как искусства. В нью-йоркском Музее современного искусства группа молодых художников воспроизводила ее ранние перформансы час за часом, день за днем на протяжении трех месяцев.

МАРИНА АБРАМОВИЧ
2015
Созданные ею ошеломляющие, пугающие и драматичные образы плохо вязались с дружелюбной женщиной, которая вела меня вверх по ступеням палаццо: это была разговорчивая дама, бодрая и уравновешенная, она очень молодо выглядела для своего возраста, и в ее облике не чувствовалось никакой суровости.
– Я делаю все эти трудные вещи, – сказала она мне, когда мы с ней уселись в гостиной на piano nobile[3], – но я в хорошей физической форме. Я занимаюсь спортом, не курю и не пью, но не из принципа, а потому, что терпеть не могу алкоголя: у меня от него голова болит. Перформансы делают меня счастливой.
Надо признать, что сначала мне трудно было понять душевный склад, при котором человек готов морозить или кромсать собственное тело, но исключает для себя, например, бокал просекко. Но, с другой стороны, я должен был признать и то, что искусство перформанса было для меня загадочной областью.
Всю мою жизнь во мне естественней всего откликались статичные и традиционные виды искусства, скульптура и живопись. Жизнь скульптур и картин измеряется веками, а не часами или минутами, и они сделаны из материалов более долговечных, чем человеческая плоть. Но чем дольше я слушал Абрамович, тем лучше начинал ее понимать. Для нее, по-видимому, перформанс предполагал измененное состояние сознания, почти вхождение в транс. «Если порежусь, когда крошу чеснок на кухне, я заплачу».
– В частной жизни, – продолжила она, – чувствуешь себя хрупкой, в ней работает твое «низшее я» – повседневное сознание. Но когда создаешь перформанс, то для того, чтобы выйти за пределы своих возможностей и сделать то, что хочешь, ты можешь использовать энергию зрителей, а она безгранична.
По словам Абрамович, перформанс – это нечто среднее между психотерапией и духовной практикой. Она уверена, что перформанс способен непосредственно воздействовать на зрителя и затронуть его чувства – качество, которое современное искусство утратило. «Когда ты совершенно открыт для всех, уязвим и не защищен – ух! – это потрясающе трогательно, – объясняла мне Абрамович. – Когда я в Нью-Йорке делала перформанс Дом с видом на океан, где я двенадцать дней провела без еды, на меня пришли посмотреть тысяча двести людей, и они плакали. Они приходили снова и снова».
Ее цель – это не страдание, но освобождение.
– Мучительно тяжело сидеть часами без движения; но, если ты остаешься на месте, наступает момент, когда ты вот-вот потеряешь сознание, и тут боль совершенно уходит. – Марина щелкнула пальцами. – Ничего не остается. И потом ты понимаешь, что с ней можно справиться, она у тебя в голове. Боль – это как дверь, по другую сторону которой – удивительная свобода.
В 1977 году Абрамович и ее тогдашний партнер Улай просидели семнадцать часов, молча и почти не двигаясь, в одной из галерей Болоньи. Они смотрели в противоположные стороны, но их соединял мост из волос: ее волосы, собранные в «конский хвост», были скручены с его. Этот перформанс был метафорой их слитности и разделенности, а также проявлением невероятных выносливости и терпения. В последний час перформанса к ним в помещение впустили зрителей.
Сохранился черно-белый фильм об этой работе, под названием Отношения во времени. Иногда сохраняется куда меньше. Сейчас перформанс переживает возрождение, как и многие явления, характерные для семидесятых годов. Однако сложность состоит в том – и здесь Абрамович со мной согласна, – каким именно образом можно сохранить столь преходящую форму искусства.
– Перформанс должен быть живым, иначе все, что от него остается, это – плохие фотографии в книгах и очень скучные видео, потому что в старые времена камеры были плохие, звук был плохой, всё – плохое. Всё это никто смотреть не станет. Так что, если молодые художники хотят воспроизвести мои старые вещи, кого волнует, что они – мои? Пускай действуют.
Мне пришло в голову, что есть связь между перформансами Абрамович и религиозными ритуалами и культом мучений во многих религиях, в частности с умерщвлением плоти у христианских святых. Абрамович с ходу согласилась.
– Меня всегда завораживал Афон, священная гора греков, куда открыт доступ только мужчинам. Я всегда думала, что надо бы одеться под мужчину, приклеить усы и ее увидеть. Там были монахи с крестами, вышитыми на груди, которые жили в каменных пещерах и почти ничего не ели.
На самом деле с религией этих монахов – православием – Абрамович прямо связана по семейной линии. Ее дед со стороны матери был патриархом Сербской православной церкви, которого впоследствии объявили святым. Его набальзамированное тело было выставлено для поклонения в храме Святого Саввы в Белграде.
Многое из того, что Абрамович включает в свои перформансы, например продолжительные посты и неподвижность, напоминает действия православных отшельников, подобных, например, Симеону Столпнику, который жил в Сирийской пустыне на столбе с небольшой каменной площадкой вверху. Однако даже мало кто из святых решился бы повторить ее перформанс 1975 года Обмен ролями, когда она на четыре часа менялась местами с амстердамской проституткой.
– Когда я оглядываюсь на свои ранние работы, – размышляет Абрамович, – они кажутся странной смесью очень сурового аскетизма и своего рода героизма. – По ее словам, славянская культура вся такая: «Она замешана на легендах, страстях, любви и ненависти; в ней много противоречивого».
Ее родители не были ни отшельниками, ни аскетами, напротив, они были борцами и во время Второй мировой войны сражались в рядах югославских партизан против нацистов. Каждый из них в партизанский период спас жизнь другому, но они слишком разнились по происхождению. Ее отец, оставивший жену с детьми, когда Марине было восемь лет, был родом из бедной семьи. Абрамович помнит, как отец разводил в ванной огонь и жарил на нем поросят, когда мать уходила смотреть балет на гастролях Большого театра.
– Отношения у родителей не складывались. Когда я была маленькой, я проводила больше всего времени у бабушки с материнской стороны, женщины глубоко религиозной. У нее был постоянный конфликт с моей матерью-коммунисткой, который позднее перешел в конфликт между матерью и мной. В общем, – закончила она, – мой дед был святым, а мать с отцом – героями, что делает меня самое – полной загадкой.
Абрамович явно была необычным ребенком.
– Первую попытку стать святой я сделала, когда жила у бабушки, – рассказала она. – В церкви стояла мраморная чаша со святой водой, я залезла на стул и попыталась всю ее выпить; единственным результатом стал понос, так как вода была очень грязная.
С детства у меня была мысль стать художницей. Странно, но я, в отличие от других детей, никогда не любила игрушек, медведей или кукол. Единственное, что было мне интересно, так это закутаться в простыню, а потом высовывать руки и ноги, чтобы получались тени на стене.

УЛАЙ И МАРИНА АБРАМОВИЧ
ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ
Перформанс
1977
Ее первая выставка картин состоялась, когда ей не было двадцати, и к концу шестидесятых годов она училась в белградской Академии изящных искусств, где рисовала виды неба. В один прекрасный день над ней пролетел на большой скорости отряд военных самолетов, и она подумала, что полосы самолетных выхлопов на фоне неба образуют прекрасную картину.
– Я отправилась на базу и спросила, не могу ли я одолжить у них пятнадцать самолетов для рисования. Они позвонили моему отцу и сказали: «Ваша дочь не в своем уме».
Но для меня это был момент откровения. Я больше не могла рисовать. Это было огромным потрясением: почему я должна делать что-то двумерное, если я могу работать с любыми материалами? Мои первые перформансы были связаны со звуком. Но тело тоже было частью процесса, поскольку оно тоже издавало звуки.
Однако извлекались эти звуки очень некомфортным для зрителей способом, на который слабонервным было тяжело смотреть. Так, ее перформанс Ритм 10 (1973) включал традиционную в русских тюрьмах игру с ножом. Широко расставив пальцы, Марина очень быстро стучала между ними ножом, и неритмичная дробь прерывалась вскриками боли. Перед ней лежало двадцать ножей, и после каждого пореза Абрамович брала новый нож.
Другие ее перформансы были определенно опасны для жизни. Так, кульминацией Ритма 5 (1974) был прыжок в центр символа коммунизма – большой пятиконечной звезды, которая по контуру была пропитана бензином и пылала. Оказавшись внутри звезды, Марина потеряла сознание, поскольку огонь забрал из воздуха весь кислород. К счастью, среди публики оказался врач, который понял, что произошло, и ее спасли.
Не удивительно, что в Белграде конца эпохи Тито у многих глаза лезли на лоб при виде таких экспериментов.
– В то время заниматься перформансом в Югославии – это всё равно что стать первой женщиной, ступившей на Луну. Это было нелегко и требовало преодоления себя, потому что я была крайне застенчивой.
В молодости, по словам Абрамович, если за ней кто-то шел, от стеснительности и тревожности она останавливалась и разглядывала витрины, пока ее не обгоняли.
– Когда я начала работать с телом, это принесло мне такое небывалое удовлетворение, что я больше ничем заниматься не могла. Это было потрясающе, потому что давало мне массу сил.
Но зачем нужны были эти постоянные самоистязания?
– Работая со своим телом, ты вынуждена посмотреть в глаза своим страхам: страху боли, страху смерти; эти темы в искусстве в том или ином виде всегда присутствуют. Если задействуешь тело, ты должна разобраться в нем: как выглядит тело с порезами, насколько можно раздвинуть пределы его возможностей?
Пока Абрамович публично проделывала эти невероятные вещи, она, как ни удивительно, продолжала подчиняться жесткой домашней дисциплине. Ее мать завела дома такой же строгий порядок, как в партизанском отряде, поэтому, совершив экстремальные действия во имя искусства, Абрамович мчалась домой, чтобы вовремя лечь спать.
– Каждый день я должна была вернуться домой до десяти вечера, потому что после десяти на улице остаются только дурные женщины. Нужно было мыть с детергентами всё, даже бананы.
В двадцать девять лет Абрамович сбежала из дома; мать пыталась привлечь полицию, чтобы ее вернуть, но полицейские только посмеялись, когда услышали про возраст беглянки.
Из гнетущей атмосферы Белграда она переехала в либеральный Амстердам семидесятых.
– Для меня это было чистым адом, – вспоминала она. – Это настоящий шок – переметнуться от тотального контроля к полной свободе.
Живя в Югославии, она представления не имела о контркультуре шестидесятых и семидесятых и слушала Баха и Моцарта, а не The Beatles.
– Да, это было время рок-н-ролла и наркотиков, но в моей жизни их не существовало.
Вскоре она встретила немецкого перформера Улая, родившегося в тот же день, что и она, 30 ноября, но тремя годами раньше, в 1943-м. Союз двух художников, который одновременно был экспериментом по созданию единой художественной идентичности, продлился двенадцать лет. Абрамович и Улай одевались (или раздевались) почти одинаково, у них были совместные работы. Их последний перформанс закончился разрывом. Каждый прошел по гребню Великой Китайской стены до ее середины, он – от пустыни Гоби, она – от моря.
– Мы миновали тринадцать провинций, видя на своем пути невероятную нищету и невероятную жестокость.
Встретившись на середине стены, они распрощались. Изначально, объяснила она, предполагалось, что они встретятся и поженятся, но на улаживание формальностей – переговоры между правительствами Голландии и Китая – ушло столько времени, что, когда всё было согласовано, отношения между партнерами закончились. Свадьба, сказала она, была его идеей.
Напряженность в их отношениях, как она полагает, вызывала ее слава; это неудивительно, так как Абрамович была не только оригинальной художницей, но в молодости обладала внешностью и обаянием кинозвезды.
– Поскольку я была хорошо известна, люди постоянно писали обо мне, а его имя даже не упоминали. На мне всё время лежит это проклятие, я всегда в центре внимания, и это разрушает мою личную жизнь до основания.
Идея брака, продолжала она, «всегда была ей не по душе».
– Они всегда хотят на мне жениться, а потом меня переделать, но так не выходит.
Ей также никогда не хотелось иметь детей. Жизнь Абрамович – образец чистого самопожертвования: ничто не должно было отвлекать ее от искусства.
– Поэтому, – неожиданно добавила она, – я думаю, что мне стоило бы выйти замуж за космонавта; он был бы в космосе, экспериментировал с невесомостью, а я бы работала без помех.
После этой беседы я вернулся из тихого палаццо, где остановилась Абрамович, в бурную жизнь Венецианской биеннале. Но вернулся уже немного другим. Я вдруг понял, в чем суть этого искусства, которое прежде было для меня полной загадкой. Я понял, например, что такой художник, как Винсент Ван Гог, почти так же страдал и жертвовал собой во имя своей работы, как отшельник – во имя веры. И еще я понял, что любое искусство – это своего рода перформанс, даже если оно более долговечно. На самом деле, как это иногда бывает после встречи с большим художником, я обратился в новую веру.
Беседа может воздействовать на тебя так же, как путешествие: ты физически оказываешься в том же пространстве, что и другой человек, смотришь на него, слушаешь его и вместе с этим впитываешь его индивидуальность. На тебя всё это влияет. Год спустя Абрамович осуществила в Нью-Йорке такой перформанс: она три месяца сидела на деревянном столе, а зрители по очереди садились на стул напротив и молча смотрели ей в глаза. Перформанс назывался В присутствии художника. Во время нашего интервью она тоже – присутствовала.
Предшественники, соперники, последователи
4. Кроманьонские дни и ночи
Мы приехали в Лез-Эзи-де-Тайак в самом конце сезона. Там, в сельской части Дордони, было уже по-осеннему сыро, а вечерами так просто холодно. В том, чтобы приехать в это время, имелись свои преимущества, но это не был продуманный выбор: мы просто до последнего откладывали заказ билетов. Уже через несколько дней кассы закрывались, и попасть в пещеры с первобытными памятниками было бы невозможно до нового сезона.
В октябре, рассуждал я, едва ли многие поедут любоваться местными достопримечательностями. А я давно намеревался их посмотреть, особенно одну из пещер с рисунками возрастом в десятки тысяч лет. Теперь увидеть пещеры стало просто необходимо, потому что мы с Дэвидом Хокни должны были приступить к работе над книгой, в которой хотели описать историю изображений: от скалы до монитора[4].
Я чувствовал, что, прежде чем начать работу над своей частью текста, я обязан постоять перед хотя бы некоторыми наскальными рисунками: увидеть их не на фотографиях, а в реальности. Я знал, что летом в самые известные пещеры с рисунками стремится столько народа, что билетов туда просто не купить. Разумеется, рассудил я, в период затишья, за несколько недель до начала зимы, отдыхающих в Дордони и, соответственно, посетителей в пещерах будет немного.
Итак, мы с Джозефиной прилетели в Бержерак, непритязательно симпатичный аэропорт которого состоял из нескольких бараков и летного поля, и взяли машину. Ранним вечером мы заселились в отель «Кро-Маньон» – уютное старое здание на краю длинной и узкой деревни, вытянувшейся вдоль единственной дороги под скалой.
Мы думали, что название отеля – это отсылка к несколько устаревшему названию первобытной культуры и, соответственно, к многочисленным найденным в окрестностях деревни останкам и артефактам. Но очень скоро выяснилось, что наш приют был назван с галльской точностью: на выступе скалы прямо над нами в 1868 году рабочие обнаружили кости животных, кремневые орудия и человеческие останки.
Луи Ларте, геолог, который после продолжил раскопки, нашел скелеты четырех взрослых людей, один из которых был женским, и скелет одного ребенка. Их назвали «кроманьонцами», и они считаются первыми людьми современного типа в Европе. Наша спальня находилась в нескольких метрах от их грота: эта близость была очень занятной. Мы буквально жили в первобытном веке, но, конечно, с существенно большим комфортом, чем наши предки.
На следующее утро мы встали рано, чтобы нам уж точно хватило билетов. Мы оказались перед кассой музея на другом конце Лез-Эзи даже раньше ее открытия в девять часов. Увы, там уже собралось очень много желающих, и мы оказались в конце длинной очереди. К нашему возмущению, когда касса открылась, народу перед нами выстроилось еще больше, поскольку, как я сообразил, несколько человек заняли места для полудюжины своих друзей, которые наверняка нежились в тепле.
Когда сорок пять минут спустя мы всё же добрались до окошечка, то выяснилось, что на сегодня не осталось билетов ни в пещеру Фон-де-Гом, ни в соседнюю пещеру Грот-де-Комбарель с высеченными на скале рисунками. Нам уже начало казаться, что вся поездка была пустой тратой времени. В мрачном расположении духа мы отправились к стоянке древних людей Абри-дю-Кап-Блан, выбрав ее почти наугад.

КОНЬ
Стоянка Абри-дю-Кап-Блан, Лез-Эзи, Дордонь
В машине мы обменялись отрывистыми фразами о том, не стоило ли нам проявить большую настойчивость и заказать билеты заранее – в скромном количестве они были доступны онлайн. Тогда можно было их приобрести через интернет, но мы не смогли разобраться с сайтом (сейчас этой услуги нет, что упрощает дело).
Когда мы доехали до стоянки, настроение у нас было подавленное и беседа не клеилась. В ожидании экскурсовода мы разглядывали скромную выставку местных находок, и энтузиазма мне это не прибавило. При всей своей пылкой любви к искусству я не любитель археологии. Витрины, где полно костей и обломков древней бурой керамики, меня не вдохновляют. Много лет назад, когда мы всей семьей отдыхали в Греции, наши дети придумали название для всех таких мест: «Музей унылых горшков», – и в душе я с ними согласился.
Самая важная находка в Абри-дю-Кап-Блан – это скелет молодой женщины, известной как Мадленская девушка, но здесь он выставлен не был: как мы узнали, ее купил Музей естественной истории Филда в Чикаго в 1926 году. Скелету сделали компьютерную томограмму с высоким разрешением, и скульптор реконструировал внешность его владелицы: девушка получилась на удивление гламурной, как участница реалити-шоу, с шапочкой из бусин орехового цвета на голове.
Наконец гид пришел и провел нас и еще нескольких туристов через заднюю дверь небольшого здания, и мы оказались на самой стоянке первобытных людей. Это было пространство длиной примерно в пятнадцать метров с наклонным каменным полом и естественной крышей. На середине стены был вполне различимый и почти – иного слова не подберешь – натуралистичный, хотя сильно пострадавший от времени горельеф коня; левее – еще два.
Постепенно по указаниям гида я разглядел десять лошадей и еще нескольких животных, в том числе горного козла и бизона. Какие-то из фигур были в плохом состоянии, они выкрошились и подверглись эрозии из-за дождей и ветров, но лучшие, в частности – лошади, были на удивление сохранными и крупными.
Пару лет назад я видел много прекрасных образцов доисторической мелкой пластики на выставке в Британском музее. Но те скульптуры были вырезаны из бивней мамонта или кусков костей, их размеры исчислялись дюймами. А самая большая лошадь со стоянки Кап-Блан была размером почти с реальную, то есть почти два метра в длину.
Передо мной – мне вдруг пришло в голову это слово – была инсталляция возрастом в пятнадцать тысяч лет. Нетрудно было представить себе, как она выглядела в неверном свете костра или под косыми лучами закатного солнца. На самом деле даже в свете фонарика, которым размахивал гид и выхватывал фигуры из темноты, они выглядели великолепно.
А потом перед нами встал вопрос, как потратить остаток дня, который мы рассчитывали провести в тех пещерах, куда не достали билетов. Заглянув в путеводитель, мы решили осмотреть полноформатную копию пещеры Ласко, где находятся самые изысканные и прославленные доисторические рисунки в мире, но куда открыт вход лишь немногим специалистам.
Эту пещеру с наскальной живописью обнаружили в 1940 году, и после войны она стала местом притяжения для толп туристов. К середине пятидесятых годов мимо ее эффектных росписей проходило 1200 человек в день, что несопоставимо с Фон-де-Гом, куда до сих пор впускают только семьдесят восемь человек ежедневно. Люди, разумеется, служили источником загрязнения: тепло, влага, углекислый газ и микробы, сопровождающие любителей искусства, начали быстро разрушать рисунки. На них появились лишайники и налет солей. В 1963 году пещеру Ласко закрыли для посетителей.
Взамен нее была создана Ласко II, точная до мельчайших подробностей копия, которая находится почти на том же месте: на пути к ней вы минуете запертую дверь в настоящую пещеру. Копии изображений и даже конфигурация сделанных из силикона стен в точности повторяют оригиналы.
То есть впечатления, полученные в Ласко II, должны точно совпадать с впечатлением от посещения настоящей пещеры; Ласко II очень популярна. Около нее мы увидели огромную парковку. Также там было четыре туристических автобуса и группы школьников. Достать билеты на просмотр даже этой копии доисторического искусства было совсем не просто. Но хотя экспозиция была приятной и познавательной, всё равно это не то же самое, что увидеть подлинник.
Много лет назад, размышляя о том, в чем разница между созерцанием фотографии и оригинала, художница Дженни Сэвилл сказала мне следующее: «Когда стоишь перед картиной, ты оказываешься на месте ее автора, кем бы он ни был». То есть оказаться перед оригиналом Рембрандта или Веласкеса означает совершить своего рода путешествие во времени. Относительно картины ты стоишь на том же самом месте, где стоял сам художник. Зрительная информация, попадающая тебе на сетчатку и проходящая дальше по зрительному нерву, будет в основном та же, если не брать в расчет временные изменения красочного слоя, хотя, конечно, взгляды и убеждения у тебя в голове могут быть другими.
Возможно, в Ласко II какие-то мелочи подсказали мне, что я смотрю на силиконовую копию, а не на скалу, возможно, существенным было то, что вход туда оформлен как вход в музей, а не спуск в недра земли. Разумеется, выбора тут нет: хоть как-то увидеть Ласко можно только в репродукции.

БИЗОН
Пещера Фон-де-Гом, Лез-Эзи, Дордонь
То же относится к Шове, пещере со столь же эффектными наскальными рисунками, обнаруженной в 1994 году в долине реки Ардеш. Ее вскоре закрыли для посещений. Туда могут заходить только специалисты в защитных костюмах, похожих на скафандры космонавтов, но предназначенных защищать не людей, а пещеру от загрязнения человеком.



