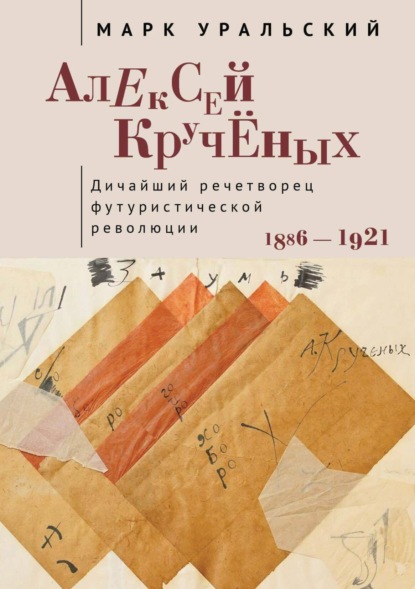- Рейтинг Литрес:5
Полная версия:
Марк Леонович Уральский Василий Розанов как провокатор духовной смуты Серебряного века
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Марк Уральский
Василий Розанов как провокатор духовной смуты Серебряного века
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© М.Л. Уральский, 2022
© Г. Мондри, А. Медведев, предисловия, 2022
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022
Василий Розанов – простодушный провокатор, «мудрый как змея»
Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби
(Мф. 10:16–16)Читатель новой документально-беллетристической книги о Василии Розанове, написанной Марком Уральским, несомненно, будет заинтригован одной цитатой в тексте, которую русский философ приписывал великому еврейскому мыслителю позднего средневековья Маймониду: «головка члена имеет форму СЕРДЦА». Сама графическая форма этой цитаты уже отражает оригинальность розановского нарратива: используя курсив и заглавные буквы вперемешку со строчными, Розанов акцентирует смысловую и экспрессивную функцию слова. Как мастер афористической литературной формы Розанов подбирает слова таким образом, чтобы они подчеркнули и выразили открытые им значения. Сталкивая слова, выражающие понятия, которые европейское христианское сознание видит, как несовместимые, он подрывает само понятие противоречий, часто связанных с телесностью и духовностью. Одновременно цитата заставляет читателя задуматься над имплицитным значением слов в русском языке, определяющих части тела человека. Обратив внимание на слово «головка» в определении части пениса, Розанов в кратчайшей форме делает вызов европейской философской мысли: он разрушает главный дуализм, лежащий в основе философии Рене Декарта, дуализм бинарного концепта «тело» vs «душа». Именно поэтому слово СЕРДЦЕ Розанов выделяет заглавными буквами, проводя параллель между детородным органом и духовной сферой. «Голова», ставшая принадлежностью не только телесного верха, но и низа, опровергает бинарное противопоставление между рассудком и животными функциями организма.
Труды Розанова были основаны на поисках представлений о поле и размножении, любви и семейственности в дохристианских культурах Древнего мира. Он находил нужный ему материал в древнеиудейских источниках, в археологических артефактах материальной культуры Шумерской цивилизации, Древнего Египта и Древней Греции. Его зарисовки отдельных фрагментов новых археологических находок, касающихся сексуальных отношений в древности, шокировали современников. Виднейшие государственные деятели Серебряного века – прокурор святейшего Синода Константин Победоносцев, премьер-министры С.Ю. Витте и А.А. Столыпин, высказывались о Розанове как об «ужасном порнографе» и на этом основании запрещали публикацию его книг [Голлербах. С 49.]. Такое определение они давали на основе использованных Розановым иллюстраций, которые на самом деле являлись фотографиями археологических находок, т. е. памятников истории и культуры древних цивилизаций. Сам Розанов не имел отношения к обнаружению этих древних сакральных изображений как археолог, однако он дал оригинальную трактовку их религиозно-мистического значения. Особое внимание Розанов обратил на то, что в отличие от христианских культовых реликвий, превозносящих аскезу, эти памятники древних культур иллюстрируют животворческую гимнографию. Такого рода открытие Розанов использовал как базу для построения своей «философии жизни», в которой утверждал примат креационистского акта Творения, т. е. плотского начала, что шло вразрез с традиционными христианскими представлениями о греховности плоти. Являясь одним из видных собирателей-нумизматов эпохи Серебряного века, он использовал свою коллекцию древних монет в качестве вещественного доказательства правоты развиваемых им концептов. Показателем особой «зацикленности» Розанова на «проблеме пола» служит в частности тот факт, что в собранной им коллекции древних монет, его самого в особый восторг приводили те из них, где был изображен фалл и фигуры с фаллической символикой.
Перед Марком Уральским, как перед любым автором книги о Розанове, стоит масса нерешенных до сих пор в розанововедении вопросов и препятствий. Идеи Розанова так связаны с формой их выражения, что передать их смысл без эпигонского опошления практически невозможно. Как правильно отметила Зинаида Гиппиус, Розанова нельзя пересказать, потому что его мысли и дискурс едины по силе экспрессивности. Понять политическую или идеологическую позицию Розанова также практически невозможно из-за флюидности и текучести его мнений. Таким образом, однозначно определить типологию Розанова не представляется возможным, а характеристические концепты автора настоящей книги – трикстер, идейный провокатор, парадоксалист, клоун, юродствующий и т. п., надо принимать как некие условности, памятуя о том, что не один из них в полной мере не описывает розановский тип творческой личности.
Розанов стоит одинокой фигурой на рубеже веков, именно поэтому интеллектуалы и литераторы, которые изначально взяли его в свой круг, дали название «В своем углу» отведенной ему рубрике в журнале «Новый путь». До конца жизни Розанов так и оставался сидеть «в своем углу», со «своим собственным Богом» – даже под сенью монастырских стен. Потому знавшим его людям трудно было поверить, что, исповедовавшись и причастившись Святых Христовых Тайн, он, страстный христоборец, отошел на вечный покой умиротворенным.
Правомерным представляется решение Марка Уральского выбрать фокусом своей книги вопрос о том, как Розанов вписывается в общую культурно-идейную атмосферу Серебряного века. Несмотря на позицию «в своем углу», Розанов является одной из самых влиятельных фигур этого периода в истории русской литературной и интеллектуальной мысли. Его влияние на молодое поколение, которое творило материал, составивший эссенцию Серебряного века, неоспоримо. Благодаря своей креативной энергии, включенности в культурный процесс и публицистической активности Розанов был знаком с широки кругом мыслителей и интеллектуалов, многие из которых оставили яркий след в истории русской культуры. И хотя отношение знавших его деятелей культуры к его собственной персоне менялось от восторженного до негативного, высокое признание его литературного таланта всегда оставалось неизменным. Так, например, видный деятель символистского движения Андрей Белый, обычно не склонный к восторженным похвалам собратьев по перу, писал в 1906 г. (журнал «Весы») про «огонь, оплеснувший нас из <…> книги Розанова «В мире неясного и нерешенного», увидевшей свет в 1901 году. И действительно, в начале XX в. эта книга, где он говорил о «загадке рождающего бытия, загадке рождающего пола» и утверждал, что «в физиологических знаках скрыты прообразы всего духовного» потрясла российское интеллектуальное сообщество.
Концепты андрогинности, гендера, пола, гомоэротических отклонений с легкой руки Розанова, заявлявшего их в мистическом ключе, стали главными темами как символистов, так и всякого рода «декадентов» эпохи модерна. Нельзя не отметить, что дань признания Розанову-литератору и мыслителю, отданная молодым Андреем Белым, не помешала ему позднее отзываться о нем, как личности, весьма критически. По его утверждению в окружении Розанова даже придумали словечко «Пло» (от «плохо»), чтобы передать впечатление от манеры поведения Розанова. А раздражали они многих, и не всегда по причинам идейных разногласий. Интимный и интимничающий тон розановских нашептываний на ухо, как и его амикошенство очень часто шокировали. По свидетельству З.Н. Гиппиус однажды, когда Розанов, юродствуя, весьма неучтиво обратился Сологубу: – Что же вы все молчите, Федор Кузьмич. Я нахожу, что вы похожи на кирпич в сюртуке. Тот, имея обыкновение, говорить в лицо все, что думал, ответил: – А я нахожу, что вы грубы. Такое публичное обвинение могло обескуражить любого тогдашнего интеллигента, но только не Розанова, который его просто «не услышал». Кстати говоря, дочери Розанова, горячо и нежно им любимые, не раз доходили до истерик от шокирующих высказываний своего отца.
Вне всякого сомнения, все это делало личность Розанова «странной», попадавшей под типологию людей неадекватных, часто переходящих границы хорошего тона, принятого в культурном обществе. В этом своем качестве, Розанов, однако, был вполне типичен, ибо в литературно-художественных кругах той эпохи сплошь да рядом встречались эксцентрики, всякого рода «чудаки» да юродствующие. Вышеупомянутые Андрей Белый, Зинаида Гиппиус и Федор Сологуб то же были из их числа – большие оригиналы. Все они, таким образом, являли собой не только создателей новой литературы, но и нового типа личности, поведенческие реакции которой в сравнении с представителями прежнего поколения отличались значительным расширением границ нравственной и политической позиции. В этом отношении Розанов, как никто другой из его современников, воплощает и даже определяет понятие «широк человек», выдвинутое Достоевским в его последнем романе, «Братья Карамазовы». Мне представляется, что Розанову-эксцентрику сродни один из главных героев этого романа – Федор Павлович Карамазов. Однако в отличие от этого литературного персонажа Василий Розанов, попирал нравственные нормы и провоцировал скандалы лишь в пространстве интеллектуального дискурса и публичной общественно-политической полемики.
Как мыслитель, при всей своей декларативной приземленности Розанов обитает в мире идей – там, где ставятся и обсуждаются фундаментальные вопросы бытия, плоти и духа. При этом ограниченность человеческой жизни для него, как и тлетворность тела не являются свидетельством превосходства Духа над физическим миром. В своей «философии жизни» Розанов выступал непримиримым врагом аскезы: монастыри и монашество в его миропонимании есть издержки христианской религиозности, а греховность, в том виде как она преподносится верующим духовенством – продукт внутрицерковной политики, искажающей отношения между человеком и Богом, заповеданные актом Творения. В этом отношении Розанов близок к Ницше, заявившему в «Генеалогии морали» о манипуляции церковниками в своих корыстных целях понятием греха. Согласно Ницше, Бог «Ветхого Завета» заключает соглашение индивидуально с каждым верующим, и грех определяется Богом, а не посредниками, взявшими на себя роль тюремных надзирателей и держащих людей в страхе и подчинении. Именно в этом ракурсе, как человек раздвигающий понятия морали, выработанные институтом христианства, и в частности – Православной Церковью, Розанов выступает как идейный провокатор и представитель культуры модерна.
Размышляя о провокативной позиции Розанова, следует опять-таки отметить, что он целиком и полностью не подпадает под определение агент-провокатор. Тягу к провокации – как черту характера Розанова, прочувствовал и молодой философ Аарон Штейнберг во время своего разговора с ним на тему о его позиции политического публициста во время «дела Бейлиса» – еврея, ложно, по политическим мотивам, обвинявшегося в 1913 г. в ритуальном убийстве христианского мальчика. По мнению Штейнберга, Розанов в их беседе явил себя как провокатор per se, но и при этом и как очень наивный человек. Штейнберг описывает этот свой разговор с Розановым в книге воспоминаний «Друзья моих ранних лет (1911–1928)» [ШТЕЙНБЕРГ]. Как поклонник таланта Розанова, Штейнберг был возмущён и озадачен отношением Розанова к «кровавому навету» на евреев и решил поговорить с ним лично на эту тему. Любезно приняв молодого философа-еврея у себя на дому, Розанов неожиданно попросил его помочь ему, принять решение по поводу одного анонимного письма. Именно этот момент разговора между ними, а также содержание письма и реакция на него Розанова помогают понять дух эпохи, в котором одной из доминант являлась Провокация. Прочитав письмо, Штейнберг сразу понял, что содержавшаяся в нем угроза Розанову о жестоком наказании, которому он якобы будет подвергнут в одной из синагог города, где в секретном месте проносятся ритуальные жертвы, – фальшивка и политическая провокация. Реакция Розанова на это письмо характеризует его как человека наивного и одновременно, в противовес его мнению о себе, не очень проницательного, т. к. он, опытный литератор, по стилистике письма не увидел, что текст его состряпан не евреями, а их врагами. Со своей стороны, Штейнберг сразу «раскусил» суть письма и понял опасность ситуации: по его мнению, враги евреев и Бейлиса могли и на самом деле совершить нападение на Розанова, чтобы обвинить и в этом преступлении евреев (копируя таким образом убийство Андрея Ющинского). Мнение Штейнберга открывает динамику и логику провокаций Серебряного века, оно объясняет, как легко было устроить преступный акт, компрометирующий евреев в той накаленной общественной атмосфере, когда шел процесс над Бейлисом. Тот факт, что сам Розанов этого не понял, красноречиво свидетельствует о его политической наивности. Две противоположные реакции на анонимное письмо с угрозами – еврея Штейнберга и русского Розанова, раскрывают динамику отношений между представителями доминантного большинства и «инородцами» в ту эпоху. Привыкший к гонениям и преследованиям в стране, где антисемитизм являлся государственной политикой, Штейнберг хорошо понимает логику провокативной анонимки. Именно поэтому он посоветовал Розанову обратиться в полицию. Розанов же, находясь в плену визионерских фантазий и своих юдофобских предубеждений, предпочитает за лучшее, не вдаваться в глубокий анализ ситуации.
Книга Уральского освещает и концепт «юродства» по отношению к позиционированию Розанова в тех или иных вопросах. Следует отметить, что устойчивый имидж Розанова как «юродствующего» объясняет тот факт, что некоторые члены Ст. – Петербургского Религиозно-философского общества решили голосовать против его исключения из этого трансдисциплинарного объединения. Так называемый «суд» над Розановым был результатом реакции большинства членов Общества на провокационную антисемитскую направленность статей, опубликованных им во время процесса над Бейлисом в черносотенной печати. Среди тех, кто голосовал против исключения Розанова, были два поэта символиста – Всеволод Иванов и Александр Блок. Первый, игнорируя политический акцент статей Розанова, выступал за примат свободы суждений в их интеллектуальном сообществе, второй – явно разделял антисемитские взгляды глубоко уважаемого им писателя. Следует особо оговорить, что Совет Религиозно-философского общества вынес решение на основании не только политических, но и религиозных аргументов. Одним из них являлся вопрос о попытках черносотенцев и крайне правых православных мистиков, в том числе о. Павла Флоренского, действовавшего анонимно, из-за спины Розанова, выдвинуть убитого Андрея Ющинского на роль мученика – «христианского дитяти, умученного жидами». Такого рода идею в публичном пространстве страстно отстаивал и сам Розанов. В глазах Совета, среди членов которого были видные богословы – Антон Карташов и Валентин Тернавцев, такая постановка вопроса являлась кощунством по отношению к мартирологу христианской церкви. Члены Совета справедливо видели в этом призыве политическую подоплеку, маскирующуюся под религиозный вопрос. В этой связи для них размежевание с Розановым было «вопросом религиозно-социального порядка» (см. «Суд» на Розановым», Записки С. Петербургского Религиозно философского общества в [ФАТЕЕВ (II). Кн. II. С. 184–216]).
Для членов Совета Религиозно-философского общества концепт терпимости был не флюидным, безграничным и аморфным понятием. В поведении Розанова они увидели цинизм как результат «доведения понятия свободы до пределов». Сам концепт «предела» являлся здесь принципиальным понятием, поскольку для Розанова раздвижение пределов до бесконечности было частью его мировоззренческой позиции. Совет Общества указал, что «терпимость по отношению к Розанову была бы именно тем цинизмом, который нарушает меру доступной терпимости» (С. 190). Несмотря на то, что некоторые члены Совета и ранее резко критически относились к тому, что Розанов писал «в своем углу», они сочли все же за лучшее, признать его активную включенность в политику во время скандального «процесса Бейлиса» за социальный феномен. Розанова, – постановил Совет, – якобы «выдумала сама русская жизнь, условия русской общественной деятельности» (С. 191).
Размышляя над темой новой книги Уральского, разрабатывающего концепт Розанова как провокатора духовной смуты Серебряного века, следует учитывать политическую типологию той эпохи. После «процесса Бейлиса» сам Розанов опубликовал фельетон в «Новом времени», в котором заявил, что, мол-де, во время процесса «лгали все». Это заявление свидетельствует о его сознательном стремлении вписать свое поведение в воображаемую им самим типологию исторического момента. Вместе с тем, однако, не следует столь резко сужать ракурс видения Розанова. Марк Уральский убедительно показывает, что ему как мыслителю присущ очень широкий диапазон мнений и взглядов. В этом отношении не лишним будет вспомнить характеристику, данную Розанову Аароном Штейнбергом. Будучи выходцем из Серебряного века, этот мыслитель всю жизнь стоял на стыке тех двух культур, к которым Розанов относился с такой страстью и одновременно пристрастием – еврейской и русской. Оглядываясь назад с расстояния в пол века, Штейнберг в 1968–1969 гг. писал о «многогранности» Розанова, и видел в его «причудливых поворотах» и его «изнанке» ту «глубину, которая является истинным библейским простодушием». Розанов в доброжелательном определении Штейнберга – «простодушный мудрец», при этом «мудрый как змея».
Заслуга Уральского состоит также и в том, что в своей книге ему удается представить Розанова не только как трикстера и агента-провокатора общественного мнения, но и показать, что сама многогранность и противоречивость высказываний писателя дает возможность манипулировать его литературно-философским наследием в идейно-политических целях. В работах Розанова можно найти разные, подчас полярные высказывания: русофобские и патриотические, юдофобские и юдофильские и т. п. Однако, когда они используются в пропагандистских публикациях националистов-ксенофобов, цитирование делается выборочно, в силу чего эти высказывания звучат как однозначные утверждения. То же самое касается теоретиков различных литературных группировок: они также, игнорируя антиномичность и заданную противоречивость розановских тезисов, находили в них те моменты, которые подходили бы к их идейной платформе: так для Андрея Белого Розанов был одним из «отцов русского символизма», а для формалиста Виктора Шкловского – типичным модернистом, создателем авангардной литературной формы. А во второй половине XX в. Розанова стали видеть предтечу постмодернизма.
В настоящей книге Марка Уральского читатель встретит Василия Васильевича Розанова в образе трикстера и идейного провокатора, стоящего, хотя и обиняком, но в общем потоке общественно-политического и религиозного дискурса Серебряного века. В своем подходе к «проблеме пола» Розанов как сексуальный мистик предвосхитил многие новейшие интерпретации древних религиозных и крипто-культовых источников, связанных с гендерной метафизикой. Он является одним из пионеров европейского движения в защиту прав сексуальных меньшинств, а также первым из русских мыслителей обратил свой взгляд на проблематику тела и телесности, хотя, к сожалению, и воспользовался наработками в этой области для обоснования своих антихристианских ксенофобско-расистских представлений.
Генриетта Мондри,
Кентерберийский университет
(Новая Зеландия).
Ренессанс, или «Лесные маргаритки» Василия Розанова
Труд Марка Уральского представляет собой энциклопедический по объему проект современной Розановианы (вероятно, самый крупный после «Розановской Энциклопедии», вышедшей в 2008 году), в котором дается широчайший спектр точек зрения на Розанова. Сотни источников – от современников Розанова до исследователей XXI века – сопровождаются развернутыми экскурсами историко-культурного характера. В этой оптике фигура Розанова предстает современному читателю живой и объемной.
Не со всем в этой полифонии голосов можно согласиться. Безусловно, современники оставили уникальные свидетельства о Розанове, но вряд ли можно сказать, что они понимали его в полной мере, даже при этом высоко его оценивая, – «лицом к лицу лица не увидать». В современной Розанову критике возникает тот набор штампов, который преследует его до сих пор: «русский Ницше», «юродивый», «циник» и т. д. Но неуловимый в своей антиномичности Розанов уходит от всех этих определений. Марк Уральский приводит, на наш взгляд, очень точную мысль М. Пришвина, который на протяжении всей жизни вел с Розановым диалог: «Розанов, по-моему, не был тем хитрецом, о котором пишет Горький, он был “простой” русский человек, всегда искренний и потому всегда разный».
Попытаемся посмотреть на Розанова с дистанции «большого времени». И в этой перспективе Розанов предстает едва ли не самой крупной фигурой русского Ренессанса. Как известно, в России эпоха Средневековья затянулась вплоть до XIX в., и Ренессанс оказался не завершенным, как в Европе, а дискретным, в несколько волн, – первая (XIV–XVI вв.), вторая (XIX в.) и третья волна (рубеж XIX–XX вв.), которая была оборвана 1917 годом, но дискретно еще продолжалась на протяжении всего XX века (модернизм и авангард).
Что же делает Розанова ренессансной фигурой? Его постепенно нарастающая до христоборчества критика средневековых ценностей, с которыми он полемизировал с гуманистических позиций. Прежде всего вспомним розановскую критику аскетизма с его культом смерти («Темный лик» христианства), которому Розанов противопоставил ренессансное видение мира («Религия как свет и радость»). Не случайно Розанов так высоко ценил Рафаэля – художника Рождества и рождения, «семейного христианства».
В отличие от дуалистического Средневековья Ренессанс реабилитирует природу и телесного человека. Бог уже не оторван от своего творения, а присутствует в материи. Розанов постулирует онтологическую «святость мира», припадая к ее источникам в древних культурах Востока (Египет и Израиль), в которых «звезда» или «цветок» – «точки касания перстов Божиих» (Величайшая минута истории, 1900).
Не случайно Розанов симпатизировал св. Франциску Ассизскому с его оправданием земного творения («Гимн брата Солнца»). П. Бицилли считал Франциска фигурой, в которой в свернутом виде уже было заложено всё итальянское Возрождение. Сетуя на то, что современная ему религиозные философы (о. П. Флоренский, в частности) ничего не сказали о браке, семье, о поле и уходят в «сухую, высокомерную, жестокую церковность», Розанов сожалеет, что «засыхают цветочки» Франциска (Опавшие листья. Короб второй и последний, 1915).
В этом же ренессансном ключе Розанов «теизировал» пол и семью («эфирнейший цветок бытия»), считая, что восприятие сексуальной жизни как греховной исходит из монофизитского аскетизма: «Содом рождает идею, что соитие есть “грех”» (Люди лунного света, 1911). Открыв тему пола, Розанов пишет о нем одновременно откровенно и целомудренно, возвращаясь к библейской целокупности души и тела («в Библии вдруг высвятилась вся плоть человеческая»; «в плотском единении, ни в каком, – нет никакого греха»), что очень точно уловил Пришвин: «Посмотрите на человека, он срывает с земли ароматный простой цветок и подает его своей возлюбленной, царь Давид пляшет, Соломон поет Песню песней, и страницы Вечной книги наполнены благоговейной связью умноженных, как песок, поколений семени Авраама».
Наверное, только в стихах А. Тарковского в XX веке была продолжена еще эта розановская линия «таинства любви»:
Когда настала ночь, была мне милостьДарована, алтарные вратаОтворены, и в темноте светиласьИ медленно клонилась нагота…Краеугольной для Розанова является ценность личности. Уже в начале 1890-х годов он полемизирует с позитивизмом с персоналистических позиций: «Человек вовсе не хочет быть только средством… Он просто свободный человек… Оставьте его одного, с собою: он вовсе не материал для теории, он живая личность, “богоподобный человек”. Умейте подходить к нему с любовью и интересом, и он раскроет пред вами такие тайны души своей, о которых вы и не догадываетесь» (Три момента в развитии русской критики, 1892). В итоге Розанов приходит в «Уединенном» к глубоко личным отношениям с Богом («Авраама призвал Бог: а я сам призвал Бога»). Во имя человека дерзновенно вступает в борьбу с институцией церкви, защищая «незаконнорожденных детей», опять же исходя их святости рождения, даруемого не Богом смерти, но Жизни.
Розанов реабилитирует не только природу, но и повседневный быт, который с точки зрения идейной интеллигенции XIX века считался чем-то презренным и обывательским. На знаменитый идейный вопрос Н. Чернышевского «гениальный обыватель», как определил Розанова Н. Бердяев, отвечает необходимостью жить реальной жизнью: «“Что делать?” – спросил нетерпеливый петербургский юноша. – Как что делать: если это лето – чистить ягоды и варить варенье; если зима — пить с этим вареньем чай» (Эмбрионы, 1899). И позже, в первом коробе «Опавших листьев» (1913), полемизируя уже с Достоевским как «пророком “завтрашнего” и певцом “давнопрошедшего”» в романе «Бесы», Розанов снова акцентирует ценность текущего мгновения жизни в знаменитой записи о малосольном огурце с «ниточкой укропа»[1].