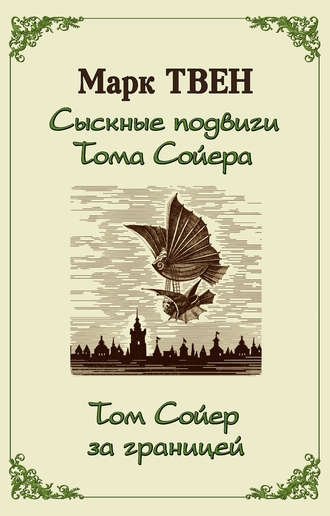
Марк Твен
Сыскные подвиги Тома Сойера. Том Сойер за границей (сборник)
© Оформление, составление. Издательство РИМИС, 2016
Сыскные подвиги Тома Сойера
Глава I
Это было на следующую весну после того, как я и Том Сойер освободили нашего старого негра Джима, который был прикован к цепи, за попытку к бегству, на ферме дяди Сайльса в Аркенсью. Морозы ослабели, воздух становился теплее, все ближе и ближе придвигалось лето. Мальчикам, какими мы были тогда с Томом, бывает особенно грустно в такое время. Беспричинная тоска давит грудь, и невольно вздыхаешь, сам не зная о чем. Хочется уйти куда-нибудь в пустынное место, на вершину горы, на опушку леса, – сидеть там и смотреть, как Миссисипи разливается широко и струится вдаль на целые мили, огибая лес, туманный и далекий, и все вокруг так тихо, так безмолвно, что вам начинает казаться, будто все, что вы любили, умерло, и сами вы умерли, и все давно прошло, все забыто и кончено навеки.
Знаете ли вы, что это за чувство? Это весенняя горячка. Вот как оно называется. И когда вас охватила эта горячка, вы хотите – о, вы сами не знаете, чего вы хотите, но ваше сердце болит, и вы стремитесь куда-то! Вам страстно хочется уйти куда-нибудь, избавиться от старой, томительной, наскучившей вам обстановки, увидеть что-нибудь незнакомое, новое. Эта мысль не дает вам покоя. Вам хочется идти, сделаться путником, скитальцем; вам хочется видеть чужие страны, где все так таинственно, так удивительно, так романтично. И если вы не можете исполнить этого желания, вы согласны и на меньшее: вы готовы идти хоть куда-нибудь, лишь бы уйти подальше отсюда.
Вот такой-то весенней горячкой заболели и мы с Томом Сойером, и заболели очень опасно. Но Тому нечего было и думать о путешествиях; он говорил, что его тетка Полли очень ясно дала ему понять, что ни в каком случае не допустит, чтобы он бросил школу и отправился бродяжничать. Однажды мы сидели на ступеньках крыльца в довольно мрачном настроении, когда вдруг из дома выходит тетка Полли с письмом в руке и говорит:
– Том, тебе надо уложить свои вещи и отправляться в Аркенсью – твоя тетка Салли просить тебя приехать.
Я чуть не подпрыгнул на месте от радости. Я думал, что Том бросится к тетке на шею и задушит ее поцелуями, а он – вы только подумайте! – сидит себе неподвижно, как скала, и хоть бы слово сказал. Я просто готов был заплакать от досады, что он поступает так глупо и не пользуется счастливым случаем. Ведь все могло быть потеряно из-за того, что он не выразил словами своей признательности и радости. Но он продолжал сидеть молча и думать о чем-то без конца, пока я в отчаянии уже не знал, что и делать; наконец, Том, подумав, сказал с самым убийственным хладнокровием:
– Тетя Полли, мне ужасно жаль, но я надеюсь, что тетя Салли извинит меня, если я не исполню ее просьбы.
Тетя Полли до того была поражена этим неожиданным ответом, что в течение нескольких секунд не могла произнести ни слова, и это дало мне возможность толкнуть Тома локтем и шепнуть ему:
– Что ты, с ума сошел, что ли! Не воспользоваться таким превосходным случаем!
Том, нимало не теряя своего хладнокровия, отвечал мне, тоже шепотом:
– Гек Финн, уж не хочешь ли ты, чтобы я показал ей, насколько я рад ехать? Она тотчас же стала бы сомневаться, раздумывать, воображать тысячи болезней, опасностей и препятствий для этой поездки, и не успел бы я оглянуться, как она запретила бы мне ехать. Не мешай мне, я знаю, как с нею обращаться.

Ничего подобного никогда не пришло бы мне в голову. Но Том был прав. Том Сойер всегда был прав – всегда благоразумный, находчивый, готовый на все: каждый мог на него положиться во всем, за это я ручаюсь. Тем временем тетя Полли пришла в себя и накинулась на Тома:
– Тебя извинить! Скажите, пожалуйста! Нет, право, я ничего подобного за всю мою жизнь не слыхала. Каким тоном разговаривает со мной этот мальчишка! Сейчас же иди укладывать свои вещи, и если я услышу хоть одно слово насчет извинения, я покажу тебе такие извинения, что ты их долго будешь помнить.
Она в заключение стукнула Тома по голове своим наперстком, и мы проскользнули мимо нее на лестницу, причем Том сделал вид, будто хнычет. Очутившись наверху, в своей комнате, Том кинулся ко мне на шею и был вне себя от радости, что едет путешествовать.
– Прежде чем мы уедем, она станет жалеть, что заставила меня ехать, но ей уже нельзя будет взять назад своего слова. После того, что она сказала, гордость не позволит ей уступить.
Том уложил свои вещи за десять минут, остальное должны были уложить ему тетя Полли и кузина Мэри; потом он подождал еще десять минут, чтобы тетка успокоилась и стала доброй и ласковой, как прежде, так как Том говорил, что для успокоения его тетки требовалось десять минут. После этого мы спустились вниз, сильно желая узнать содержание письма тети Салли.
Тетя Полли сидела внизу, глубо задумавшись; письмо лежало у нее на коленях. Когда мы сели, она начала:
– У них большие неприятности и огорчения, и они думают, что ты с Геком придумаешь что-нибудь и поможешь им. У дяди Сайльса есть сосед, по имени Брэс Дунлап. Этот Брэс Дунлап уже месяца три как вздумал свататься за Бенни. Дядя Сайльс, наконец, объявил ему раз и навсегда, что не отдаст за него Бенни. Тогда Брэс, из мести, всячески стал досаждать ему. Я полагаю, что Брэс, должно быть, важный человек в той стороне, потому что дядя Сайльс, по-видимому, не хочет ссориться с ним и, чтобы как-нибудь его умилостивить, взял даже его брата работником к себе на ферму, когда ему никакого работника не надо и тяжело платить жалованье лишнему человеку. Кто такие эти Дунлапы, Том?
– Они живут, тетя Полли, около мили от фермы дяди Сайльса, – в тех местах, все фермы отдалены друг от друга на расстоянии целой мили, – и Брэс Дунлап считается самым богатым фермером. Ему тридцать шесть лет; он вдовец, бездетный, чванится своими деньгами, притесняет бедных, и соседи боятся его. Мне кажется, он во ображал, что может выбирать себе любую невесту, стоит ему только захотеть, и, должно быть, ему было очень досадно, когда Бенни отказала ему. Ведь ей всего восемнадцать лет, и она такая милочка, такая хорошенькая, – вы ведь видели ее, тетя Полли. Бедный дядя Сайльс! Это очень жаль, что ему приходится ублажать Брэса Дунлапа и ради этого держать у себя на ферме ни к чему не пригодного Юпитера Дунлапа и платить ему жалованье из последних средств.
– Юпитер! Имя-то какое! Что это его вздумали так обозвать?
– Это прозвище. Я думаю, что его настоящее имя давно забыли. Теперь ему двадцать семь лет, и он получил это прозвище с тех пор, как в первый раз научился плавать. Учитель увидал у него на ноге, повыше колена, темное родимое пятно, величиной в десятицентовую монету, а вокруг четыре пятнышка поменьше, и сказал, что это Юпитер и его спутники; школьники нашли это забавным и стали звать его Юпитером; так это прозвище осталось за ним и до сих пор. Это высокий малый, ленивый и хитрый тихоня, довольно трусливый, но не злой, с длинными темными волосами, без бороды; он не имеет ни гроша за душой, так что Брэс держит его у себя из милости, дает ему носить свое старое платье и обращается с ним презрительно. У Юпитера есть брат-близнец.
– А тот брат каков?
– Точь-в-точь такой же, как Юпитер, если верить рассказам, – то есть был такой, потому что вот уже семь лет, как о нем ничего не слышно. Девятнадцати лет он попался на воровстве, и его посадили в тюрьму, но он бежал из тюрьмы куда-то на север. Первое время ходили слухи, что он грабил то здесь, то там, но уже много лет, как о нем ничего не слышно. Он, вероятно, умер. Так, по крайней мере, думают все.
– Как его зовут?
– Джек.
Некоторое время длилось молчание. Старушка задумалась. Наконец она проговорила:
– Главное, что более всего тревожит тетю Салли, это раздражение, до которого доводит Юпитер твоего дядю.
Том был поражен, я тоже. Том сказал:
– Раздражение? Дядя Сайльс раздражен? Праведное небо! Должно быть, вы шутите, тетя Полли. В первый раз слышу, что он может раздражаться.
– Юпитер приводит его в совершенную ярость, говорит тетя Салли, иногда доходит дело до того, что дядя Сайльс готов ударить этого человека.
– Тетя Полли, это просто невероятно! Ведь дядя Сайльс мухи не обидит.
– Ну, уж я не знаю, только тетя Салли очень встревожена. Она пишет, что дядя Сайльс стал точно другим человеком, и все из-за этой ссоры. А соседи начинают осуждать твоего дядю, обвиняют его во всем, потому что он, говорят, пастор и ему не пристало заводить ссоры. Тетя Салли пишет, что он и проповеди говорит неохотно, – так его измучило все это, – и прихожане становятся к нему холодней; он уже не пользуется таким влиянием на них, как прежде.
– Это очень странно! Ведь он всегда был такой добрый, ласковый, снисходительный, – ну, просто ангел, а не человек! Что такое приключилось с ним, как вы думаете?
Глава II
Нам повезло: мы успели застать пароход, направлявшийся в Луизиану, через Верхнюю и Нижнюю Миссисипи вплоть до фермы дяди Сайльса в Аркенсью, так что нам не было надобности пересаживаться в Сент-Луис.
На пароходе было почти пусто; кое-где сидели пассажиры, по большей части старые люди, отдельно друг от друга, и дремали безмятежно. Мы ехали уже четыре дня, но нам не было скучно. Разве могут скучать мальчики, которые вырвались на свободу и едут путешествовать? С первого же дня мы догадались, что на пароходе есть больной и что он помещается в офицерской каюте, по соседству с нашей, потому что лакеи всегда подавали туда кушанья. Между разговором мы спросили об этом, – то есть Том спросил, – и слуга ответил, что, действительно, там есть мужчина, но он не кажется ему больным.
– И он, в самом деле, вовсе не болен?
– Я не знаю; может быть, он был болен, но теперь поправился.
– Почему вы так думаете?
– Потому что, если бы он был болен, он, конечно, разделся бы и лежал в постели, не правда ли? А этот напротив. Он все время не снимал даже сапог.
– Вот так штука! И не ложился в постель?
– Нет.
Тома Сойера хлебом не корми, только подавай ему какую-нибудь тайну. Если бы вы положили перед нами на столе тайну и хороший пирог на выбор, мы не долго колебались бы. Моя натура такова, что я тотчас же взялся бы за пирог, а Том, напротив, ухватился бы за тайну. Натуры бывают различны. Том спросил у слуги:
– Как зовут этого человека?
– Филипс.
– Откуда он едет?
– Кажется, он сел на пароход в Александрии.
– Как вы думаете, что он за птица?
– Не знаю, я совсем не думал об этом.
«Вот, – подумал я про себя, – еще один, который скорее возьмется за пирог, чем за тайну!»
– Есть в нем что-нибудь особенное? В его манерах или в разговоре?
– Ничего нет особенного, только кажется, что он чего-то боится, потому что держит свою дверь на замке и днем, и ночью, и, если к нему постучишь, он никогда не отворит двери сразу, а сначала посмотрит в щелку, чтобы узнать, кто к нему стучит.
– Клянусь богом, это интересно! Хотелось бы мне взглянуть на него. В следующий раз, как вы пойдете к нему, не можете ли вы отворить дверь пошире, и…
– Нет, этого никак нельзя! Он всегда стоит за дверью и сейчас же ее захлопнет.
– Слушайте. Вы дадите мне свой передник и позволите мне утром отнести ему завтрак в каюту.
Слуга сказал, что он согласен, если только буфетчик позволит это. Том взялся устроить это дело с буфетчиком и, действительно, устроил его. Нам было разрешено по очереди одевать передники и носить кушанья в каюту незнакомца.
Том почти не спал эту ночь, так его волновала тайна, окружавшая Филипса; и всю ночь он старался разгадать эту тайну, но, конечно, его старания были безуспешны. А я, напротив, воспользовался случаем хорошенько поспать. Ведь все равно, сколько ни думай, мне не разгадать, что за штука этот Филипс, – говорил я себе, засыпая.
Хорошо. Утром мы, как только встали, надели перед ники, взяли в руки подносы, и Том постучал в дверь. Таинственный обитатель каюты посмотрел на нас в щелочку, потом впустил нас и тотчас же захлопнул за нами дверь. Когда мы только взглянули на него, клянусь богом, мы чуть не выронили подносы из рук, так мы были изумлены!
– Юпитер Дунлап, как вы сюда попали? – спросил Том.
Юпитер был поражен и, по-видимому, не знал – бояться ему или радоваться; краска вернулась ему на лицо, хотя сначала он сильно побледнел. Мы принялись болтать о том, о сем, пока он ел свой завтрак. Поев, он сказал:
– Только я не Юпитер Дунлап. Я скажу вам, кто я такой, если вы поклянетесь молчать, потому что я не Филипс.
– Мы будем молчать, – сказал Том, – но только, если вы не Юпитер Дунлап, вам нет надобности объяснять нам, кто вы такой.
– Это почему же?
– А потому, если вы не он, так, значит, вы другой близнец – Джек. Вы настоящая копия Юпитера.
– Хорошо, не буду отказываться: я, действительно, Джек. Но только слушайте, ребята, каким это образом вы знаете Дунлапов?
Том рассказал ему наши приключения, происшедшие прошлым летом на ферме дяди Сайльса, и когда Джек увидел, что они нисколько не касаются ни его самого, ни его братьев, он сразу стал откровенным и разговорчивым. О себе, впрочем, он избегал говорить определенно; только сказал, что ему досталась суровая доля, и что он, может быть, худо кончит; что жизнь, которую он ведет, очень опасна и…
Тут он остановился и, открыв рот, затаил дыхание, как будто к чему-то прислушиваясь. Мы тоже не произносили ни слова, и несколько секунд было так тихо, что не слышалось ничего, кроме легкого скрипа деревянных частей парохода и шума машины внизу. Потом мы понемногу успокоили его, рассказывая ему про его братьев, и о том, как жена Брэса умерла три года назад, и как Брэс хотел жениться на Бенни, а она отказала ему, и как Юпитер служит на ферме у дяди Сайльса, и как он ссорится с дядей Сайльсом – так что, наконец, Джек совсем успокоился и начал смеяться.
– Боже мой! – сказал он. – Ваша болтовня напоминает мне доброе, старое время, и мне так приятно вас слушать. Уже более семи лет, как я ничего не слыхал о родных. Что они думали обо мне все это время?
– Кто?
– Да все соседи и мои братья.
– Они совсем о вас не думали, вспоминали иногда, вот и все.
– Неужели? – сказал Джек, удивленный. – По чему же это так?
– А потому, что все считали вас мертвым давным-давно.
– Не может быть! Правду ли вы говорите? Дайте мне честное слово, что это правда, тогда поверю!
И он вскочил с места от волнения.
– Честное слово. Все уверены, что вы давно умерли.
– Тогда я спасен, я спасен, в этом нельзя сомневаться! Я вернусь домой. Они спрячут меня и спасут мне жизнь. Вы только молчите. Поклянитесь, что будете молчать, что никогда, никогда не предадите меня. О, мальчики! Сжальтесь над несчастным, которого преследуют днем и ночью, как затравленного зверя, так что он не смеет нигде показаться! Я никогда не сделал вам никакого зла и никогда не сделаю, именем Господа Всемогущего клянусь вам в этом! Поклянитесь же и вы, что сжалитесь надо мной и поможете мне спасти свою жизнь!
Мы согласились бы дать клятву, даже если бы он был не человек, а собака. Когда мы поклялись, бедный малый не знал, как выразить нам свою любовь и благодарность.
Мы продолжали разговаривать, а Джек тем временем достал небольшую дорожную сумку и стал открывать ее, попросив нас отвернуться и не смотреть. Мы исполнили его желание, а когда он сказал нам, что мы можем по-прежнему смотреть на него, он оказался до такой степени изменившимся, что невозможно было узнать его. Выпуклые синие очки закрывали его глаза, и у него каким-то чудом выросли самые натуральные темные бакенбарды и усы. Родная мать не узнала бы его. Он спросил нас, похож ли он теперь на своего брата Юпитера.
– Ни малейшего сходства, – отвечал Том, – за исключением длинных волос.
– Этому горю легко помочь, я остригу волосы под гребенку, прежде чем вернусь домой. Брэс и Юпитер сохранят мою тайну, и я буду жить у них, как посторонний человек, и соседи никогда меня не узнают. Что вы думаете насчет этого?

Том подумал немного и ответил:
– Мы с Геком, конечно, будем молчать, но и вам не лишнее придержать язык за зубами, иначе вы рискуете быть узнанным. Потому что, видите ли, если вы заговорите, все тотчас заметят, как похож ваш голос на голос Юпитера, и не наведет ли это их на мысль о том близнеце Джеке, которого считали умершим, но который отлично мог оставаться живым, скрываясь под чужим именем?
– Клянусь богом, вы очень сметливый мальчик! – вскричал Джек. – Вы совершенно правы. Я буду притворяться глухим и немым, когда вблизи будет кто-нибудь из соседей. Если бы я вернулся домой, позабыв об этой маленькой предосторожности… Впрочем, я ведь не думал возвращаться домой. Я просто хотел скрыться куда-нибудь от этих людей, которые преследуют меня; если бы мне удалось от них ускользнуть, я мог бы надеть фальшивые усы и бакенбарды, достать где-нибудь другое платье и…
Он вдруг одним прыжком очутился возле двери, приложил к ней ухо и стал слушать, бледный, задыхающийся. Затем он прошептал:
– Мне показалось, будто щелкнул курок. Боже, какую жизнь приходится мне вести!
Он упал в кресло, дрожа от волнения и страха, и принялся вытирать пот с лица.
Глава III
Начиная с этого времени мы были почти постоянно в его каюте, а ночью кто-нибудь из нас, поочередно, спал у него на верхней койке. Он говорил, что он совсем одинок и что для него большое утешение разговаривать с нами и чувствовать, что хоть кто-нибудь относится к нему с участием и разделяет его тревоги и беспокойство. Нам страшно хотелось узнать, в чем заключается тайна Джека и почему он скрывается, но Том сказал, что самый верный путь узнать тайну – это не выказывать ни малейшего любопытства; тогда Джек сам все расскажет; если же мы станем приставать к нему с вопросами, он сделается подозрительным и замкнется в себе. Всё так и случилось, как предполагал Том. Нетрудно было заметить, что Джеку сильно хочется поделиться с нами своей тайной, но каждый раз, когда мы приближались к этому вопросу, Джек начинал уклоняться от прямых объяснений и заговаривал о другом. Но наконец ему пришлось-таки исповедаться, и вот как это случилось. Между прочим, он спросил нас однажды довольно равнодушным тоном, какие пассажиры едут на палубе парохода. Мы сказали ему. Но он был не удовлетворен нашим ответом и попросил описать пассажиров более подробно. Том взялся за это. Наконец, когда он описывал самого грубого и оборванного из этих пассажиров, Джек задрожал, и у него вырвался вздох:
– О, боже мой, это один из них! – простонал он. – Они, значит, на пароходе, – я знал это! Я надеялся, что ускользнул от них, но не смел верить этому. Продолжайте.
Но едва Том начал описывать другого оборванца из числа палубных пассажиров, как Джек опять вздрогнул и прервал его:
– Это он, – это другой! Ах, если бы только настала хорошая, темная, бурная ночь, так, чтобы мне можно было незаметно сойти на берег! Видите ли, они следят за мной, и как только я сойду на берег, они сейчас же узнают об этом.
И не прошло нескольких минут, как он уже принялся нам рассказывать про себя.
– Эго была ловкая игра, – начал он – Мы наметили себе один ювелирный магазин в Сент-Луисе. Нас очень интересовала там пара великолепных, огромных бриллиантов, величиной с орех, которыми все сбегались любоваться. Мы оделись самым шикарным образом и разыграли свое представление на глазах у всех при дневном свете. Мы попросили прислать бриллианты к нам в отель, чтобы мы могли лучше разглядеть их; когда же они были присланы, мы ловко заменили их поддельными камнями, которые были у нас приготовлены, и отослали их назад в магазин вместо настоящих, сказав посланному, что бриллианты оказалась недостаточно прозрачными и не стоят двенадцати тысяч долларов.
– Двенадцать тысяч долларов! – повторил Том. – Неужели они стоили этих денег, как вы думаете?
– Стоили до последнего цента.
– И вы бежали с этими бриллиантами?
– Само собой разумеется. Я думаю, в магазине еще не успели открыть нашу подделку, но все равно нам было опасно оставаться в Сент-Луисе, и мы сочли за лучшее бежать. Мы бросили жребий, какой стороны держаться, и вышло – Верхняя Миссисипи. Мы завернули бриллианты в бумагу, написали на ней свои имена и отдали этот сверток на хранение конторщику своего отеля, сказав ему, что он должен нам его возвратить лишь тогда, когда мы все трое будем налицо, а не отдавать его кому-либо одному из нас. Покончив с этим, мы направились в город, но каждый отдельно, сам по себе, – потому, я думаю, что каждый из нас, вероятно, таил про себя одну и ту же мысль. Я не знаю этого наверное, но только думаю, что это так и есть.
– Какую мысль? – спросил Том.
– Ограбить товарищей.
– Как! Одному присвоить себе то, что украли все сообща?
– Именно.
Том был возмущен и сказал, что подлее и гнуснее этого поступка ничего нельзя себя представить. Но Джек Дунлап объяснил ему, что в их профессии такие вещи случались постоянно. Затем он продолжал рассказ:
– Видите ли, затруднение наше состояло в том, что никак нельзя разделить двух бриллиантов между тремя людьми. Если бы их было три… Но что толку говорить об этом, когда их было только два. Я кружил по глухим улицам города, думая и передумывая, как бы мне поступить. И я сказал себе, что при первом же удобном случае стащу бриллианты, переоденусь в другое платье, изменю себе физиономию при помощи накладных бакенбард, и тогда пусть попробуют найти меня. Я купил синие очки, фальшивые бакенбарды, костюм для переодевания и, уложив эти вещи в сумку, направился домой. Проходя мимо одной мелочной лавки, я заметил там, к своему удивлению, фигуру одного из моих товарищей. Это был Бод Диксон. Я обрадовался этому случаю. Теперь, сказал я себе, я узнаю, голубчик, что ты покупаешь. Притаившись в тени, я стал следить. И что же, вы думаете, он покупал?
– Бакенбарды! – сказал я.
– Нет.
– Синие очки?
– Нет.
– Ах, замолчи, Гек Финн; ты только мешаешь ему рассказывать, – перебил меня Том с досадой. – Что же он покупал, Джек?
– Вы не угадали бы ни за что на свете. Он покупал отвертку, простую маленькую отвертку – и ничего больше.
– Вот так штука! Для чего же она ему понадобилась?
– Вот об этом-то я и подумал. Это было любопытно. Я просто недоумевал. Зачем ему понадобилась отвертка? – спрашивал я себя. – Как только он вышел из лавки, я спрятался, чтобы он меня не заметил, и выследил его до следующей лавки, где он купил красную фланелевую рубашку и другое старое платье, – то самое, в котором вы видели его здесь, на палубе, и описали мне. Свой мешок я спрятал на шлюпке, которую мы приготовили себе, чтобы подняться вверх по реке. После этого мы встретились в отеле, взяли у конторщика сверток с бриллиантами, сели в шлюпку и отправились в путь.
Никто из нас не решался заснуть; мы сторожили друг друга. Это было очень досадно, тем более, что несколько недель назад мы поссорились, и только благодаря этой истории с бриллиантами между нами произошло временное примирение. Положение ухудшалось еще тем обстоятельством, что на троих приходилось два бриллианта. Сначала мы поужинали, потом стали прохаживаться по палубе и курить, пока не настали сумерки; тогда мы спустились в каюту, замкнули дверь, развернули сверток, чтобы посмотреть, целы ли бриллианты, положили их на нижнюю койку, чтобы они оставались на самом виду, и стали сторожить их, делая всевозможные усилия, чтобы не заснуть.
Наконец, Бод Диксон не выдержал. Как только он захрапел по-настоящему, опустив голову на грудь, Гель Клейтон кивнул мне сначала на бриллианты, а потом на дверь, и я понял. Я протянул руку и осторожно взял сверток; некоторое время мы стояли неподвижно, затаив дыхание; Бод не шевелился; я тихо и осторожно повернул ключ в дверях, нажал ручку, и мы вышли из каюты, так же тихо притворив за собою дверь.

Кругом не было слышно ни звука; шлюпка быстро и легко скользила по воде в туманном лунном свете. Не говоря ни слова, мы прямо пошли на верхнюю палубу. Мы оба знали, что это значит, без всяких объяснений. Бод Диксон проснется и, не найдя бриллиантов, отправится прямо сюда к нам, потому что этот человек ничего и никого не боялся, когда дело касалось денег. Если бы он пришел, мы или швырнули бы его через борт, или убили бы во время борьбы. Эта мысль бросала меня в дрожь, потому что я не так храбр, как другие, но я боялся выказать свою слабость перед Гелем Клейтоном. У меня теплилась надежда, что наше судно пристанет где-нибудь к берегу и мы успеем ускользнуть, избавившись, таким образом, от роковой встречи с Бодом Диксоном, которого я боялся до смерти; но эта надежда едва ли могла оправдаться, так как на нашем пути не предвиделось нигде остановок.
Мы продолжали сидеть, время проходило, а Бод Диксон и не думал появляться на палубе. Наконец стала заниматься заря. «Черт возьми! – говорю я Гелю Клейтону. – Понимаешь ты тут что-нибудь? Это становится подозрительным!» «Разрази меня бог! – отвечал Гель Клейтон. – Уж не сыграл ли он с нами какой шутки. Развернем-ка бумагу!» Я развернул бумагу, и что же вы думаете? В ней ничего не было, кроме двух маленьких кусочков сахара! Вот почему он так безмятежно храпел всю ночь в каюте. Ловко придумано? Уж ловчее ничего быть не может! Он заготовил сверток, где вместо бриллиантов лежали два кусочка сахара, и незаметно поменял у нас под носом.
Мы чувствовали себя вполне одураченными. Но необходимо было выпутаться из затруднения, и мы составили план.
Мы решили завернуть кусочки сахара обратно в бумагу, затем потихоньку пробраться в каюту и положить сверток на прежнее место, как будто мы его не трогали и даже не подозреваем, что Бод хотел сыграть с нами шутку и теперь храпит себе преспокойно в полной уверенности, что провел нас. Мы решили также не оставлять его одного ни на одну минуту и в первый же вечер, как сойдем на берег, напоить его допьяна, обыскать его, найти бриллианты и затем прикончить его, если это можно будет сделать без риска. Прикончить его было необходимо, потому что в противном случае он сам постарался бы прикончить нас. Но я мало надеялся, что нам удастся найти бриллианты. Напоить его пьяным нетрудно – он всегда готов пить – но что толку из этого? Он, наверное, так сумел запрятать бриллианты, что мы будем его обыскивать целый год и все-таки ничего не найдем…
Но в эту самую минуту у меня вдруг захватило дыхание от одной мысли, блеснувшей в голове. Эта мысль пронзила мне мозг, ослепила меня, и сердце у меня всколыхнулось от радости! Как раз в это время я снял сапоги, чтобы дать отдых ногам, и, когда стал снова обуваться, взгляд мой нечаянно упал на каблук моего сапога. Вы помните, что я вам рассказывал насчет маленькой отвертки?
– Еще бы не помнить! – отвечал Том, до крайности заинтересованный и слушавший повествование с чрезвычайным вниманием.
– Ну, так вот, когда взгляд мой случайно упал на каблук, у меня вдруг блеснула мысль, что я знаю, где искать бриллианты! Взгляните на этот каблук. Видите, снизу он покрыт стальной пластинкой, которая привинчена маленькими винтиками. Значит, у Бода Диксона не было нигде винтиков за исключением его каблуков, и, значит, я легко мог догадаться теперь, для чего ему понадобилась отвертка.
– Гек, ну, разве это не ловкая шутка! – воскликнул Том.
– Ну вот, я надел опять сапоги, и мы тихонько спустились в каюту, положили бумагу с сахаром на прежнее место, а сами осторожно сели и стали слушать, как храпит Бод Диксон. Гель Клейтон очень скоро задремал, но я и не думал спать; я все время старался разглядеть украдкой из-под широких полей своей шляпы, не валяется ли где-нибудь на полу кусок кожи, вырезанный из середины каблука. Наконец мне удалось найти его, а вскоре после того и другую такую же вырезку из второго каблука, и я подумал про себя: теперь я знаю, где лежат бриллианты!
Подумайте только о хитрости и хладнокровии этого бездельника! Он придумал этот план, рассчитав заранее, как мы должны поступить, и мы все исполнили по его плану, точно два дурака. Он украдкой отвинтил пластинки от своих каблуков, выдолбил их в середине, положил туда бриллианты и снова завинтил пластинки. Он знал, что мы украдем подложный сверток и будем ждать его всю ночь на палубе, чтобы утопить его, когда он кинется к нам, и, клянусь богом, мы утопили бы его! Я нахожу, что это была чертовски ловкая шутка.
– О, еще бы! – сказал Том в восторге.







