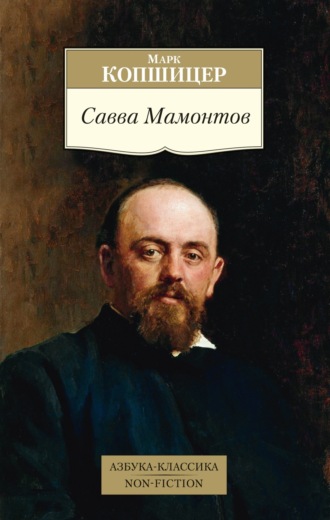
Марк Копшицер
Савва Мамонтов
В начале января Савва Иванович уехал в Москву и «опять, – как пишет Елизавета Григорьевна, – пошла покойная римская жизнь, нарушаемая только вспышками Серовой»16.
Вообще появление в Риме Саввы Ивановича всегда вызывало всеобщий подъем, высокий прилив энергии, словно какое-то возбуждающее лекарство введено в анемичный организм, и как только он уезжает, опять начинается «покойная» жизнь, которая кажется особенно покойной по контрасту с тем, что только что происходило. Так что Савва Иванович зря декларирует себя в одном из приведенных выше писем «другом трезвости». Конечно, сам по себе, вне общества соответствующих людей, он мог показаться человеком умеренным, но, попадая в среду, его возбуждавшую, он сам становился сильнейшим возбудителем. Впоследствии он станет возбудителем не только веселья, но и творческих процессов у тех людей – художников, артистов, музыкантов, – с которыми столкнет его судьба, подобно катализаторам, ускоряющим реакцию.
В Москве, как и в прошлые годы, когда оставался он без жены и детей, Савва Иванович тосковал отчаянно. Как вдруг пришло письмо от Поленова, и такое обнадеживающее: спрашивал, можно ли найти в Москве мастерскую. Савва Иванович ответил подробным письмом, рассказывая обо всех возможных вариантах организации мастерской, и в заключение писал: «Устроиться в Москве можно на всякую руку, об этом нечего беспокоиться. Ах, черт возьми, как бы это было хорошо, если бы Репин, Мордух, Вы в самом деле были бы в Москве, как бы можно было хорошо, деятельно, художественно зажить…».
В конце марта 1874 года, перед отъездом в Москву, Елизавета Григорьевна встретилась, как было условлено, с мужем в Париже. Поленов, достаточно уже обжившийся здесь, водит Мамонтовых по городу, знакомит с его примечательными местами и укромными уголками. К ним присоединяется приехавший в Париж почти одновременно с Мамонтовыми товарищ Поленова по Академии Константин Савицкий. В салоне Боголюбова Мамонтовы познакомились с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Это было, пожалуй, самое волнующее знакомство. Тургенев находился тогда в зените славы.
Тургенев, узнав, что Мамонтовы – владельцы Абрамцева, предался воспоминаниям. Он впервые попал в Абрамцево двадцать лет назад, когда жив еще был Сергей Тимофеевич. И Константин Сергеевич был жив. И сам он был молод… Как же, как же, при первой возможности он обязательно приедет в Абрамцево… Он живо все помнит: и дом, и лес, и эту чудесную чистую Ворю…
Прожив в Париже недели две, Мамонтовы уехали домой и, не задерживаясь в Москве, 1 мая прибыли в Абрамцево.
Гости бывали этим летом в Абрамцеве часто. Приезжала Гликерия Николаевна Федотова, артистка Малого театра, входившая тогда в известность. Гостила Эмилия Львовна Прахова с детьми. Все лето жил в Абрамцеве старший брат Прахова, Мстислав Викторович, профессор словесности Дерптского университета, человек необычный и сложный. В воспоминаниях и письмах Антокольского, Репина, Поленова Мстислав Прахов предстает человеком очень эрудированным, самоотверженным и добрым. С его именем Антокольский связывает начало своего увлечения литературой, а Поленов считает его одним из главных создателей Мамонтовского кружка. Интересна характеристика Мстислава Викторовича, данная Поленовым: «Внешне странный, почти юродивый, он своим высоким настроением выделялся и даже как бы противоречил общему тогда представлению об интеллигентном передовом человеке. В то время, когда эстетика изгонялась из искусства, а на ее место водворялась доктрина, тенденция, он в своем наивном идеализме имел мужество пойти против течения и тихо, но твердо выставить эстетическую потребность человека, не только как возможного деятеля, но как одно из самых необходимых начал человеческого существования». Воспоминаниям этим Поленов предался много лет спустя, в 1900 году, когда Мстислава Викторовича уже не было в живых, а Мамонтов пережил сильнейшее душевное потрясение. Он писал обо всем этом в письме к Мамонтову, и вслед за строками, посвященными Прахову, продолжал, обращаясь к Савве Ивановичу: «Ты ухватился за это и, поняв не теорией, а чувством, стал проводить в жизнь».
Впервые Мстислав Викторович появился у Мамонтовых осенью 1873 года, когда в Абрамцеве гостил его брат с женой и детьми. Всю зиму 1873/74 года Мстислав Викторович прожил у Мамонтовых в их московском доме, читал свои переводы Гафиза и порой поражал Мамонтова своей нездешностью настолько, что тот только ахал и потом писал Поленову немного иронически: «Мстислав Прахов и по сей момент у меня, витает в облаках, нюхает райские цветы, и только потому носит штаны, что холодно. Ай, ай, ай, какой идеалист, я таких не видывал! – А впрочем, подумав, делал приписку: – Благодаря ему я держусь пока на надлежащей высоте чувств, а то, право, скоро бы сделался не плоше любого лавочника».
Всю осень у Саввы Ивановича шла деятельная переписка с Антокольским, собиравшимся в конце года в Москву. Мамонтов посылает ему фотографии со своих последних работ: бюсты Елизаветы Григорьевны, Адриана Викторовича Прахова и Андрея Ивановича Дельвига (портрет которого восемь лет спустя написал Репин); Антокольский очень обстоятельно анализирует достоинства и недостатки этих работ, дает указания, хвалит за энтузиазм, настаивает на необходимости серьезно учиться, обещает по приезде в Москву недели две поработать с Мамонтовым.
Тогда же Антокольский переслал Мамонтовым купленную ими в Италии картину Морелли «Богоматерь, идущая с Голгофы». В те годы Морелли восхищались все. Репин, Поленов дают очень высокую, просто-таки восторженную оценку его картинам. Поленов пишет, что его картины «блистали, как драгоценные камни»; склонный к восклицательным оборотам, Репин называет их «дьявольщиной!», «искушением!» и пр. Оба они, Репин и Поленов, побывали в мастерской Морелли летом 1873 года, когда Репин приезжал в Италию, и, по-видимому, под влиянием их отзывов с ним познакомились Мамонтовы и купили его картину.
В конце июня 1875 года приехала в Абрамцево, где уже с марта жила вся семья Мамонтовых, Валентина Семеновна Серова с сыном, который оказался уже не Тошей и не Тоней, как его называла мать, а Валентином.
В Абрамцеве его стали называть Антоном. Антон был мал ростом, коренаст, угрюм, по-европейски опрятен. Он провел с матерью за границей три года: в Мюнхене, потом в Париже, куда она увезла его по совету Антокольского.
В Париже Антон учился у Репина рисованию и, кажется, сделал успехи. Теперь он глядел дичком, исподлобья, как зверек, заново знакомился с Россией, которую оставил, когда был еще совсем мал. Но скоро он освоился, стал общителен и очень сдружился с Сережей Мамонтовым, старше которого был на два года. У них немного не сошлись вкусы: Сережа больше всего любил собак, Антон всему на свете предпочитал лошадей, но это не помешало их дружбе и озорным затеям. Вока был еще мал, и на него, естественно, смотрели сверху вниз. Дрюша был слаб, болезнен, понимал это и сам в проказах не участвовал. Что-то трогательное, не по годам духовное было в его облике. В ту пору в Абрамцеве все чаще стали появляться двоюродные братья и сестры юных Мамонтовых: дочери Федора Ивановича – Маша и Соня – и множество «Анатольевичей»: Милуша, Таня, Миша, а потом и другие, помоложе. Весело было в Абрамцеве каждый день. А бывали еще и «большие дни», когда предпринималось что-нибудь необычайное: катание на плотах, кончавшееся пикником, поездка в Троице-Сергиевскую лавру…
Мать и сын Серовы быстро освоились у Мамонтовых, слились с абрамцевской средой, и хотя они посетили Абрамцево впервые, когда кружка художников там еще не существовало, это посещение стало прелюдией того настоящего, на долгие годы, слияния с Абрамцевым, которому предстояло сыграть столь выдающуюся роль в жизни Серова-художника.
Мамонтовы уехали из Абрамцева в самом начале осени, в сентябре, ибо ожидалось вот-вот появление на свет еще одного ребенка. 20 октября 1875 года Елизавета Григорьевна родила дочь, которой дали имя Вера.
Летом 1876 года вернулся в Россию Репин. Все лето он прожил на даче Шевцовых (родственников жены) и написал там небольшую вещицу: «На дерновой скамье» – картину, полную света и воздуха, своеобразно трансформирующую уроки новой французской живописи.
Работы, привезенные им из Франции, огорчили всех его друзей и почитателей. И Чистяков, и Стасов, ставший репинским апологетом, после того как увидел «Бурлаков», отрицательно отозвались о его новых картинах. Репин огорчился, даже обиделся на Стасова, перестал бывать у него, но скоро понял, что, как ни горька правда, а все же она – правда: только Россия сможет оплодотворить его творчество. Он решил провести зиму у себя на родине, в Чугуеве, и в начале октября уехал из Петербурга. Пять дней он с семьей пробыл в Москве. Неизвестно, виделся ли Репин в эти дни с Мамонтовыми, которые примерно в это же время переехали из Абрамцева в Москву. Но так или иначе именно в эти дни окончательно созрело его решение после возвращения из Чугуева поселиться в Москве. «Она до такой степени художественна, красива, – писал он Стасову, – что я теперь готов далеко, за тридевять земель, ехать, чтобы увидеть подобный город, он единственный! И, несмотря на грязь, я почту себе за счастье жить в Москве!»
Репин в Чугуеве прожил год, в середине мая 1877 года он приезжал на несколько дней в Москву, чтобы найти квартиру и приготовить ее к приезду семьи. У Репиных, кроме старшей дочери Веры, в Париже появилась еще одна дочь – Надя, а в Чугуеве родился сын Юрий.
В этот свой приезд Репин впервые попадает в Абрамцево, о чем пишет Прахову: «Были мы у Мамонтовых и, несмотря на скверную погоду, время провели чудесно.
Я склонен думать, что Абрамцево лучшая в мире дача, это просто идеал!..»
Летом 1877 года в Абрамцеве построен был просторный дом, который прочно вошел в историю русского искусства как «Яшкин дом». Такое необычное название произошло потому, что дом этот полюбился маленькой Верушке, которая, начав болтать, говорила о себе не так, как все дети, в третьем лице, а в первом: «я»; поэтому была она прозвана «Яшкой», а дом, к которому она прониклась такой симпатией, соответственно – «Яшкиным домом».
Первыми гостями, поселившимися в «Яшкином доме», были Праховы, приехавшие в конце лета.
В начале октября Мамонтовы переехали в Москву. В Москве уже жили Репины, приехавшие месяцем раньше.
Репин привез из Чугуева: «Возвращение с войны» – картину, навеянную балканскими событиями, «Под конвоем», «В волостном правлении», «Чудотворную икону», портреты дочерей Веры и Нади, кое-что еще, а также три удивительно острых по психологической характеристике портрета чугуевских обитателей: «Мужичок из робких», «Мужик с дурным глазом», наконец, третья из этих картин, подлинный шедевр, – «Протодьякон», вещь необыкновенной силы; «Варлаамище», как назвал его Мусоргский, которому «Протодьякон» напомнил монаха-расстригу из «Бориса Годунова».
Третьяков, увидев картины, привезенные Репиным из Чугуева, восхитился «Протодьяконом» и предложил Репину обменять его на портрет Тургенева, который Репин в Париже написал по заказу Третьякова. Портрет не нравился ни Тургеневу, ни Третьякову, ни самому Репину. Тем не менее он был водворен в Третьяковскую галерею, ибо среди всех портретов Тургенева оказался все-таки лучшим. И вот сейчас этот портрет Третьяков хотел вернуть Репину в обмен на «Протодьякона». Репин согласился, ему самому неприятно было, что неудачная картина его кисти выставлена напоказ. И Репин после долгой торговли с Третьяковым (который упорно называл картину «этюдом», хотя отлично понимал, какая это вещь) получил за него добавочную плату.
Этим событием ознаменовалось начало жизни Репина в Москве. Поселился Репин в Большом Теплом переулке, у Девичьего поля, в доме купца Ягодина. Нередко он бывает в доме Мамонтовых на Садовой-Спасской.
Все чаще заглядывает к Чижову, с которым познакомил его в Париже Поленов и с которым он теперь сблизился, встречаясь у Мамонтовых.
Однажды осенью 1877 года Репин пришел к Чижову и увидел, что старик мертв. Чижов болел перед этим, но совсем уж было поправился, даже собирался по делам в Петербург и вдруг скончался скоропостижно.
Когда-то Репин точно так же увидел только что умершего композитора Александра Николаевича Серова и через много лет сокрушался: «Как жаль: все мы были так поражены, убиты, и мне не пришло в голову зарисовать эту красивую смерть». Теперь Репин стал трезвее. Никому ничего не сказав, он пристроился с альбомом и стал рисовать. Старик полулежит в кресле с высокой спинкой, голова его склонилась набок. На столе догорают две свечи…
Репин, использовав этот рисунок, написал небольшую картину «Мертвый Чижов» и подарил ее Савве Ивановичу. Зимой 1877/78 года (по-видимому, в начале 1878 года) Репин создал очень удачный портрет Елизаветы Григорьевны – первый живописный портрет, дающий представление не только о внешнем облике этой женщины, но и о ее характере. Репин был настолько доволен этим портретом, что дебютировал им на Передвижной выставке в 1878 году. Там же были выставлены «Протодьякон», «Мужичок из робких», «Мертвый Чижов» и «Портрет матери». Именно за эти картины Репин был принят в члены Товарищества передвижных художественных выставок в обход общим правилам об обязательности определенного срока пребывания в экспонентах.
Вскоре после приезда в Россию Репина вернулся из Парижа и Поленов. Весь август 1876 года он прожил в имении своих родителей Имоченцах, сентябрь – в Петербурге, где в Академии художеств выставлены были отчетные работы пенсионеров Поленова, Репина и Ковалевского. Самой интересной работой Поленова, выполненной за границей, была картина «Право господина», за которую он получил звание академика и которую приобрел для своей галереи Третьяков. Картиной этой, однако, Поленов не сказал еще своего слова в искусстве, он, так же как и Репин, должен был соприкасаться с родной своей землей, чтобы создать что-нибудь значительное.
За время пребывания в Имоченцах Поленов написал портрет сказителя былин Никиты Богоданова – картину, о которой Репин сказал, что ее как бы «другой человек написал».
В конце сентября Поленов уехал на Балканы, в действующую армию, добровольцем, но пробыл там всего два месяца и в ноябре приехал в Москву с крестом и медалью за храбрость.
В начале июня 1877 года Поленов приезжает в Москву и, остановившись в доме Чижова, подыскивает для себя квартиру и мастерскую. Наконец он находит ее невдалеке от квартиры Репина, который в это время уехал в Чугуев за семьей.
По-видимому, Поленов бывал в это лето в Абрамцеве, ибо в письмах к нему из Чугуева Репин неизменно передает приветы Мамонтовым. В Абрамцеве Поленов, однако, не работал или почти не работал. Бóльшая часть этюдов этого лета сделана в Московском Кремле. Из окна своей новой мастерской он делает очень светлый, солнечный этюд московского дворика, заросшего травой, со старыми, покосившимися домами, с колодцем и с церковью Спаса на Песках в отдалении.
Но поселиться Поленову в Москве все еще окончательно не удавалось. В ноябре он снова уехал на Балканы. Пробыв там до января следующего года, он при первой возможности вернулся в Россию.
Он пришел к Мамонтовым с большим солдатским ранцем, полным этюдов, привезенных из Болгарии, показывал их, дарил, рассказывал о своем путешествии. «С этого дня, – пишет в своих воспоминаниях Всеволод Мамонтов, – Василий Дмитриевич не сходил с моих глаз».
В начале лета Поленов написал свой знаменитый «Московский дворик», а в конце лета, переселившись на другую квартиру, на самую окраину Москвы, в Хамовники, – еще одну замечательную вещь: «Бабушкин сад».
Картины эти не были тогда по достоинству оценены ни критикой, ни даже самим автором, а между тем эти полотна – не только самое примечательное из созданного Поленовым, но и весьма значительное явление в отечественном пейзажном искусстве.
В 1878 году Мамонтовы приехали в Абрамцево рано – 1 апреля. На Пасху приехал священник из Хотькова, и заутреню служили в доме. Елизавета Григорьевна обмолвилась, что надо бы в Абрамцеве церковку поставить. Савва Иванович согласился.
Но в этом году церковь строить не придется, пока решили пристроить к основному дому, справа по фасаду, – столовую. Гостей всегда было в Абрамцеве полным-полно, да и семья разрасталась.
3 мая в абрамцевском доме появилась на свет Шуренька. Родилась она маленькой, жалкой, косила глазками, плакала все время, а с ней, когда никто не видел, плакала и Елизавета Григорьевна.
Савва Иванович не надеялся, даже был почти уверен, что Шуренька не выживет, но выходили все же.
Лето проходило, как обычно проходило оно в абрамцевские годы: приезжали родственники, приезжали соседи, носились по парку мальчики. Бойко топала по всем комнатам Верушка, болтала очень забавно и день ото дня становилась все обаятельнее: такая маленькая женщина. Савва Иванович Верушку любил теперь больше других.
Сам он, как обычно, уезжал по утрам в Москву, в правление, был там строг и серьезен, а к вечеру возвращался. Еще по пути от Хотькова разглаживались морщины на лбу. Слышался визг пил, стук молотков, плотники кончали пристройку. За полверсты от дома сходил он с дрожек, которые всегда подавали к приходу вечернего поезда, шел по тропинке от станции к веранде, громко, чтобы слышно было в красной гостиной, стучал по лестнице башмаками. Верушка выбегала, раскинув ручонки, ему навстречу, он приседал, чтобы стать ростом вровень с ней, она обхватывала его шею, он прижимал ее к себе, и не было в тот миг на земле человека счастливее Саввы Мамонтова…
Как знать, может быть, прав Антокольский, когда пишет ему, что его дело – искусство, а не строительство железных дорог. Вот и жена просит его быть осмотрительнее в новых проектах, не зарываться… Если бы знать, где нужно остановиться! Да и как остановиться, как бросить дело, начатое отцом и завещанное именно ему? Как остановиться, когда одно дело цепляется за другое, один проект порождает другой. Вот хотя бы Антокольский – болеет беспрерывно, то одно у него, то другое, а работает без передышки: только окончил «Петра» и «Христа», как принялся за «Сократа», окончил «Сократа», а уже работает над «Спинозой». Теперь пишет из Парижа взволнованные письма о Всемирной выставке, о том, что академик Якоби, которому поручили экспозицию художественного отдела в русском павильоне, мстит «отступникам», то бишь передвижникам, развешивает их картины в самых невыгодных местах, а его, Антокольского, статуи расставляет так, что свет на них падает самым невыгодным образом…
Да, много в этом мире всякой дряни. Воевать с ней и воевать. Но ведь для этого нужны деньги. А где их взять, если не заниматься дорогами? Это еще вопрос, станет ли он скульптором, настоящим скульптором, а вот помогать таким, как Антокольский, как Поленов, как Репин, облегчать их путь – это он может. И – будет!..
Репин в тот год приехал в Абрамцево в начале июля со всей семьей и поселился в «Яшкином доме». Приехал он в Абрамцево с заказом Третьякова написать портрет Ивана Сергеевича Аксакова. Заказу этому предшествовали события чрезвычайные, всколыхнувшие не только всю Россию, но и всю Европу. События касались Балканской войны, и Иван Аксаков сыграл в них особую роль. В статьях своих и речах он ратовал за вступление России в войну на стороне Сербии и Черногории, в защиту восставших болгар, и на Западе появились даже такие утверждения, что-де война России с Турцией – дело рук Ивана Аксакова. Суждение это было весьма поверхностно, но доля правды в нем есть.
Балканская война была выиграна славянами. По Сан-Стефанскому договору балканские народы получали дополнительные территории и вольности.
Россия ликовала. В Петербурге строили триумфальную арку, готовились к встрече победоносного воинства. Но торжество оказалось преждевременным. Англия, Австрия, Германия созвали конгресс в Берлине для пересмотра Сан-Стефанского договора. Ход конгресса был печален для России.
И тут опять выступает от лица русской общественности Иван Сергеевич Аксаков. Речь, произнесенная им 22 июня 1878 года в Славянском комитете, была резкой, была переполнена упреками по адресу российской делегации в конгрессе – Горчакова, Шувалова – и оканчивалась словами, которые можно было истолковать как обвинение, брошенное самому царю. Речь произвела впечатление необыкновенное, и не только в России. Иван Сергеевич передал ее на Запад, и ею зачитывались в Париже. Франции, перенесшей за несколько лет до этого поражение в войне с Пруссией, было не до того, чтобы интриговать против России, больше того, там теперь России сочувствовали. Зато напечатанная в Берлине речь была немедленно запрещена личным приказом Бисмарка, все экземпляры ее – изъяты. И хотя все знали, что царь недоволен результатом конгресса, но, острастки ради, чтобы неповадно было критиковать людей, царским доверием облеченных, журнал «Гражданин», где была напечатана речь Аксакова, был закрыт на три месяца, а Ивану Сергеевичу Аксакову предложили покинуть Москву. Он удалился во Владимирскую губернию, в село Варварино, принадлежащее дочери поэта Тютчева – Екатерине Федоровне (на другой дочери Тютчева – Анне Федоровне – Аксаков был женат).
Через несколько месяцев, правда, царь разрешил Аксакову вернуться в Москву, но пока что Иван Сергеевич был пострадавшим за правду и за честь славянскую. И вот в эти тревожные и наполненные бурными страстями дни начала июля Третьяков заказал Репину портрет опального славянофила.
С этим заказом Репин и приехал в Абрамцево.
Работал он в Абрамцеве в то лето много и плодотворно; рисовал гостей мамонтовского дома: Мстислава Викторовича Прахова, который так привязался к Мамонтовым, что стал как бы членом семьи; рисовал племянницу Мамонтовых Танечку; рисовал Сережину гувернантку Александру Антоновну; нарисовал всю компанию за чтением в красной гостиной. Написал маслом на лужайке на фоне леса свою старшую дочь Веруню с букетом цветов. Портрет получился светлый и солнечный.
Но главным интересом и Репина, и всех в Абрамцеве тем летом были балканские события. Еще из Чугуева он привез картину «Возвращение с войны» – раненый солдат в родной деревне. Потом в Москве написал картину, изображавшую проводы хирурга Пирогова на Балканы, а когда война окончилась, написал еще одну вещь – «Герой минувшей войны», которую в письме Третьякову, просившему уступить ему картину, называл просто «Солдатик».
Но самые капитальные картины, связанные с волновавшей всех темой, Репин начал тем летом в Абрамцеве. Первая из них – «Проводы новобранца». Он много работал с натуры. Крестьяне окрестных деревень – Ахтырки, Быкова, Репихова, Хотькова – позировали охотно. Многие из них стали прототипами будущего произведения, и Репин был доволен результатами труда этого лета.
Второй замысел Репина, возникший в то лето в Абрамцеве, вылился в картину, ставшую одним из значительных произведений не только Репина, но и всей русской художественной школы, – «Запорожцы»…
В Абрамцево продолжали приезжать гости. Разговоры то и дело переходили на историю прошедшей войны. Толковали о трагических, обидных результатах Берлинского конгресса. Во время одной из таких бесед, когда женщины куда-то удалились, профессор Московской консерватории Рубець, огромный, круглолицый, огляделся и, удостоверившись, что его окружают одни мужчины, таинственно полез в боковой карман и, достав исписанный мелким почерком листок, сказал:
– От, братцы, послухайтэ, яку наши диды с туркой дипломатыю велы. И не якых конгресив! Жинок блызько нэмае? – бо тут такэ солоно пысанэ – нэ для жиночого слуха.
Мелко исписанный лист бумаги оказался знаменитым ответом запорожцев султану Ахмету III.
Рубець читал мастерски, и каждая прочитанная им фраза вызывала такой хохот, что ему пришлось все письмо читать под этот разноголосый веселый аккомпанемент.
В тот же вечер, оставшись с семьей в «Яшкином доме», Репин все вспоминал письмо запорожцев, которое он, собственно, знал чуть не с детства. В родном его Чугуеве, на Украине, неподалеку от бывшей Запорожской Сечи, списки этого письма прятали чуть ли не в каждом доме.
Он взял чистый лист бумаги и начал набрасывать композицию сцены, какой она ему представлялась.
На следующий день, к приезду Саввы Ивановича из Москвы, рисунок был готов, под ним подпись: «Запорожцы пишут ответ султану Ахмету III» — и в правом нижнем углу: «Абрамцево, 26 июля 1878 года»…
Так день за днем проходила жизнь в Абрамцеве. Настал август, Репин совсем уже собрался ехать в Варварино писать Ивана Аксакова, как вдруг нежданно-негаданно – уж и надеяться перестали – приехал Тургенев, выполнил-таки обещание, данное два года назад в Париже.
Приехал он не один. Его сопровождала, словно сателлит большую планету, и все время около него была молодая писательница Елена Ивановна Бларамберг, публиковавшая довольно слабые свои опыты под псевдонимами Апрелева и Ардов.
Тургенев был встречен с превеликим почетом и, хотя погода выдалась прохладная и солнце то и дело уходило за тучу, гулял по абрамцевской роще и вдоль Вори, сопровождаемый Мамонтовыми и Репиным, конечно же отложившим свой отъезд в Варварино ради такого случая. У одной излучины Тургенев остановился и сказал, что именно здесь когда-то любил удить рыбу Аксаков и сам он, Тургенев, здесь когда-то удил вместе с Сергеем Тимофеевичем и на зависть хозяину, у которого в тот день клевала только всякая мелочь, подцепил огромную щуку, даже волновался, вытаскивая ее на берег.
После полудня вернулись домой. В новой пристройке, только что оконченной, был накрыт стол. Верушка вбежала в комнату и остановилась, с любопытством разглядывая незнакомых людей. Тургенев взглянул на нее, и лицо его расплылось, глаза сощурились и лучились такой ласковостью, что и Верушка в ответ заулыбалась. Тургенев с ловкостью, неожиданной для его возраста и осанки, подхватил ее, сел к столу, усадил Верушку на колени и с комической серьезностью отвечал на ее милые вопросы.
Подали чай. Репин не утерпел: попросил Тургенева разрешить ему сделать еще одну попытку написать его портрет. Ведь вот так-таки нет ни одного стоящего портрета Ивана Сергеевича. О своем портрете, писанном в Париже, Репин был столь же невысокого мнения, как и о других – Перова, Похитонова и столь ценимого Тургеневым Харламова. А Павел Михайлович Третьяков так хочет иметь хороший, настоящий портрет Ивана Сергеевича.
Тургенев согласился. Но не сейчас. Сейчас он – вот только побывает, кстати сказать, в Кунцеве, на даче Павла Михайловича, – и, не задерживаясь в России, отправится в Париж. В России у него, чуть начинаются холода, тотчас разыгрывается подагра. А вот весной он опять приедет в Москву и тогда, пожалуйста, готов позировать. А то правда ведь – ни одного удачного портрета…
Поинтересовался, над чем сейчас работает Репин. Репин о «Проводах новобранца» умолчал. Рассказал, что вот уже год пишет «Царевну Софью в келье во время казни стрельцов». И тут же, повернувшись к госпоже Бларамберг:
– Голубушка, Елена Ивановна, будьте так добры, дайте сеанс. Очень у вас лицо для моей работы подходящее…
Он стал говорить о том, что обобщенный образ, даже если это образ конкретного исторического лица, тем полнее и интереснее, чем больше человеческих индивидуальностей удается воплотить в нем.
Елена Ивановна, слыша, как охотно согласился Тургенев в будущем году позировать Репину, только возликовала от такой чести:
– Ну конечно, конечно! Ради бога! Если это нужно для работы, пожалуйста: и сеанс, и два, и три.
Репин повеселел. До чего же удачно получилось, что не уехал он в Варварино. Кстати уж сказал о том, что думал сегодня, а теперь, наверное, завтра или послезавтра поедет выполнять заказ Третьякова: писать портрет другого Ивана Сергеевича – Аксакова.
– Да ну, вот чудесно! – Услыхав об Аксакове, Тургенев оживился, стал рассказывать, как спорил он, молодой западник, с молодым славянофилом Константином Аксаковым. Вот был яростный спорщик! Часами, бывало, до хрипоты спорили: понять ли Россию умом или не понять и измерить ли общим аршином, как Тютчев выразился. Ну что касается аршина, то здесь Тютчев, может быть, и прав, аршином только в России и меряют, а вот во Франции – метром. А что касается до того, можно ли умом понять Россию, так здесь он, Тургенев, считал и сейчас считает, что можно. И как был он, Тургенев, западник, так и сейчас им остался, но считает, что Россия такая же страна, как и другие, что русский народ такой же, как и другие, и что никакой загадочной русской души нет. А вот Константин Сергеевич доходил в спорах до того, что русскими стал признавать только лишь тех, кто родился в Москве и в окрестных губерниях, а кто подальше, так тот уж и не совсем русский. Тут Тургенев расхохотался тонко и заразительно и, точно тайну какую-то, сообщил, что забыл, наверно, Константин Сергеевич – ведь папенька его, Сергей Тимофеевич, родился-то вон где, в Уфимской губернии, да и сами братья-славянофилы, Константин и Иван, в тех же краях родились, и тоже, выходит, будто не совсем уж и русские.
– Конечно, – Тургенев откинулся на спинку стула, – это не значит, что если он западник, так он равнодушен к своему народу. В прошлом году, если бы был помоложе, непременно отправился бы на Балканы воевать за свободу славян. Но одно дело любить свой народ, другое – толковать об его исключительности.
– Да, господа. – Тургенев на несколько мгновений умолк и задумался. – А все же чудесная была семья у Аксаковых! Как они отца своего любили, как почитали! Боготворили просто. И было за что. Прекрасной души человек был Сергей Тимофеевич. А писал таким языком, что дай бог всякому. Читаешь его и словно слышишь живой голос. Грустно, что ушло все это безвозвратно. И молодость ушла.
Тургенев вздохнул и, улыбнувшись, оглядел слушателей. Ему внимали как зачарованные. Даже Верушка притихла у него на коленях.
– Вы, – обратился он к Репину, – обязательно передайте мой привет Ивану Сергеевичу. Споры – спорами, взгляды – взглядами, а люблю я его сердечно. Как молодость свою любят… И человек он отважный. Такую чудесную речь сказал. И – даром что славянофил, – речь-то свою на Запад сам переслал. В Париже она, должен вам сказать, огромное впечатление произвела. И это уже дело давнее, но – строго между нами – ведь он еще лет десять назад в Лондон ездил, к Герцену, и в «Полярной звезде» была напечатана одна его вещица, как сами понимаете, без упоминания имени автора. Это ведь было еще при «незабвенном». Вот вам и славянофил. Прав был, видно, Герцен. До вас, верно, «Полярная звезда» и «Колокол» не очень доходили, а ведь когда Константин Сергеевич умер, Герцен писал, что и славянофилы и западники хотя и смотрят, как Янус, в разные стороны, а сердце у тех и других – одно.




