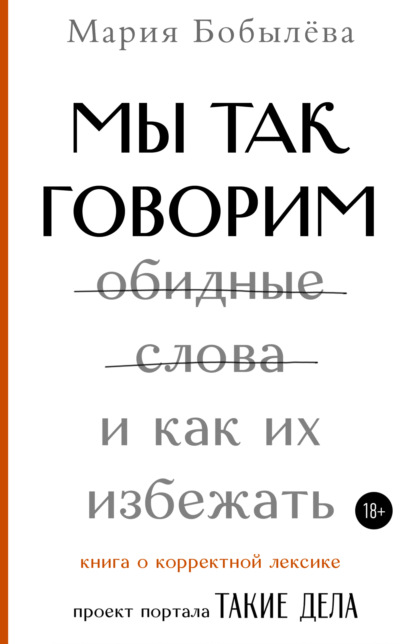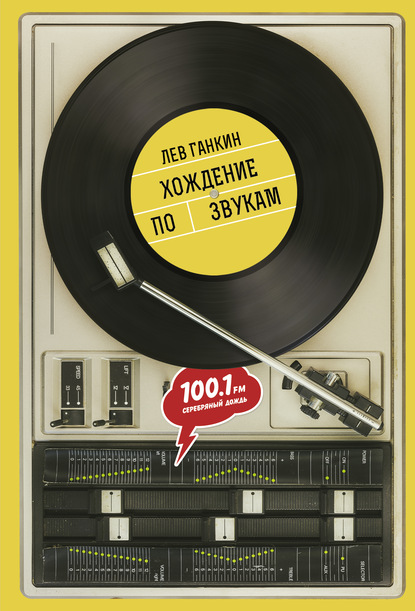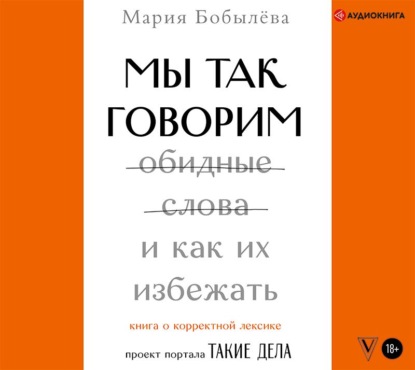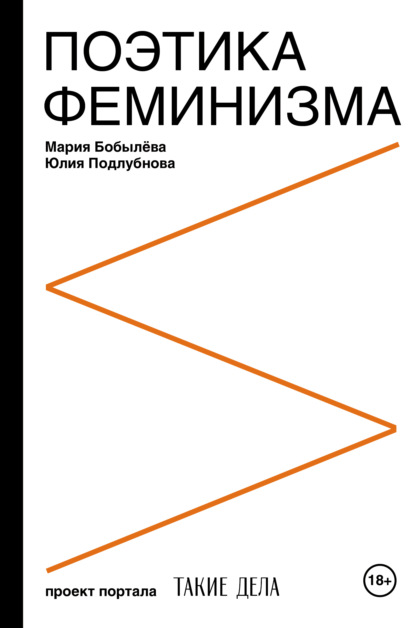Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать
Автор: Мария Бобылёва
Жанры:
Серия: Лучшие медиа-книги
Язык: Русский
Тип: Текст
Опубликовано здесь:
Файл подготовлен:
Инвалид, бомж, колясочник, трансгендер – что не так с этими словами? Почему нельзя заболеть онкологией, лишиться девственности или сделать операцию по смене пола? Эти и многие другие слова и выражения или некорректны, или просто неверны. С помощью лингвистов, активистов, психологов и профильных специалистов автор Мария Бобылёва объясняет, что такое толерантная лексика, откуда она взялась и почему именно сейчас вокруг нее столько споров. Книга стала продолжением онлайн-проекта «Мы так не говорим» портала «Такие дела».
Полная версия:
Серия "Лучшие медиа-книги"
Другой формат
Другие книги автора
Отрывок
Лучшие рецензии на LiveLib
Довольно любопытная небольшая книга, как, по мнению некоторых людей, должна выглядеть корректная лексика в современном мире. Даже если вы бесконечно далеки от размышлений о том, является ваша речь «языком вражды», и даже если вы считаете себя главным специалис… Далее
Если вдруг вы, как и я, не были в курсе того, что наркоман/алкоголик/бомж уже не говорят и хотите узнать как же говорят, то эта книга именно об этом.Первая половина - дискуссии, мнения и взгляды на новую этику, мерилом в которой стала... обида...именно обида с… Далее
Прочитав книгу, я пришла к единственной мысли - как хорошо, что я не блогер, не журналист, не спикер и вообще редко общаюсь с людьми.Я поняла, что будет жара, как только увидела в тексте "спасибо психологине...". То есть я, разумеется, понимала, что́ берусь чи… Далее