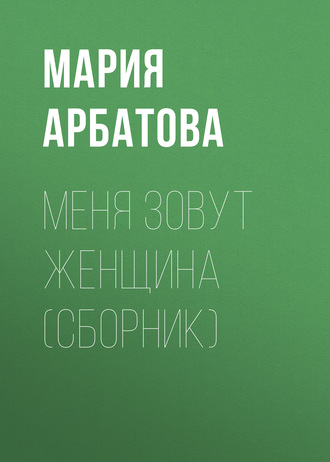
Мария Арбатова
Меня зовут женщина (сборник)
Последнее письмо к А
Зачем писать письма к адресату, которого нет? Точнее, он существует юридически и, читая это самое письмо, вынужден становиться тем, к кому пишешь, что разрушает и его, и тебя при осознании иронического расстояния между ним, реальным, и им, читающим письмо.
Человек эмигрировал для того, чтобы разорвать то, что тебе удалось или в какой-то мере удалось разорвать, находясь здесь. И если ты любишь его шефско-сестринской любовью, к которой наши бабы в принципе склонны (любовью, вмещающей в себя все – от интеллектуального флирта до эротического надрыва), то оставь в покое его, который ничем не провинился перед тобой и не хочет ничем провиниться перед той жизнью, которую выбрал. И кроме того, оставь в покое себя, у которой еще столько всего впереди и достаточно трезвый взгляд на уже решенные и еще решаемые проблемы, – скажи «спасибо» и иди дальше, потому что жизнь вряд ли даст тебе шанс сделать столько хорошего для этого человека, сколько он успел сделать для тебя за свой туристический приезд.
* * *
Фаллократия узаконила любые формы мужской рефлексии и табуировала права на женскую. Все эти Генри Миллеры и их меньшие братья Аксеновы и Яркевичи, с религиозным трепетом выясняющие в литературе собственные отношения с собственными гениталиями, при том что в их иерархии гениталия занимает хозяйское положение, а рефлексия – батрацкое… Весь этот безнадежный мужской мир, в центре которого один изможденный мужской же цивилизацией фаллос, давным-давно из средства превратившийся в цель… Не приведи господи родиться мужчиной и мерить себя и мировую гармонию физиологической линейкой! Посмотрите, какая глупая эта линейка у мужчины, хотя мы с ним социализируемся одним испанским сапогом, живем на одной планете и даже спим в одной постели, дежурно или восхитительно в зависимости от взаимного зажима и положения Марса и Венеры на небе. Совсем как у Платона – «звездное небо и нравственный закон внутри».
Как интересно быть женщиной, когда дорастешь до права на это дело. Этапы большого пути, сначала из щуплости и хрупкости начинают происходить округлости, и это совершенно не к месту, потому что школьной формой не предусмотрено, и больно, и швы под мышками рисуют глубокие малиновые вмятины.
– А я не хочу ходить в форме!
– Мало ли чего ты не хочешь!
– А я не буду!
– А тебя без формы в школу не пустят!
– А я надену обычное платье, а сверху школьный фартук!
Не можешь же ты сказать: «Мне тесно, мне давит!» – «Всем не давит, а тебе давит? Ты что, лучше всех, что ли?»
Потом в браке не сможешь сказать то же самое: «Мне давит!» Школьный фартук – гимн фаллократии. На каждый день – черный, на праздники – белый. Чтоб привыкала, падла, к фартуку с младых ногтей. И волосы в хвостик или в косичку. Отказ от волос, символический отказ от собственных мыслей – все эти пострижения в церкви, в армии, в тюрьме…
– Это что такое? Выйди из класса! Прибери волосы! Знаешь, чем кончают девочки, которые ходят с распущенными волосами? Я бы сказала вслух, но в классе мальчики!
Или:
– Я не начну урок, пока девочки не снимут кольца и серьги и не уберут их в пеналы. Я не могу вести урок в публичном доме! – истерическая зависть к цыганистым крошкам, которым протыкают уши в младенчестве. И страшный образ правильной асексуальной училки, перед которой стыдно, которая подстригает класс, как газон садовыми ножницами, и по ночам плачет в подушку по причине собственной женской невостребованности.
* * *
Это что я такое пишу? Прозу? Проза – это то, чем говорит господин Журден? Писать прозу – это как разговаривать. Писать пьесу – это как рассказывать историю. Писать стихи – это эротика. Не люблю, когда образованность пытаются продать за искренность. Это всегда похоже на отроков с недозрелыми эрогенными зонами, наглядевшихся на порнухи и уверенных в глубокой приобщенности к этому делу.
Это похоже на прозу? Так пишет А., к которому написано это письмо, но А. уехал далеко-далеко и не собирается возвращаться. Я ортодоксально обидчива, но экзистенциально бережна, в балансе между моей обидчивостью и бережностью материализуется его безумный смех и глаза цвета меда.
* * *
И снова этапы большого пути… В школе на перемене:
– Ленка из седьмого «А» в туалете всем рассказывала, что она вчера стала женщиной. Такой длинный из девятого. Прям на футбольном поле, там у ворот травка… Говорит, больно, как зуб вырвать. И кровищи!
– Больно? Наверное, надо какую-нибудь таблетку сначала от боли. Зуб же больно!
Все бегают смотреть на Ленку, ставшую вчера женщиной. Все еще в четвертом. Всем только-только вырвали молочные зубы.
– Ее теперь из школы выгонят! В старших классах всем гинеколог рентген делает, и если на рентгене видно, что уже не девочка, сразу выгоняют. И в институт никогда не возьмут. Только в ПТУ!
…Потом, в пятнадцать, все срываются с цепи – кто не сумел, те комплексуют. Кто не успел, потом всю жизнь крутятся между одиночеством, онкологом и неудачным браком, уважительно цитируя родительские запреты.
Тоскливый символ христианской культуры – недолюбленная проститутка, предлагающая любовь за деньги недолюбленному клиенту. Уберите из уравнения деньги, дайте этим несчастным заняться тем, что природа мощнее всего в них вкладывала, избыточно для того, чтобы только продолжиться, но достаточно, чтобы, построив культуру запретов, совершенно изуродоваться. Оставьте их в покое, займитесь теми, кто убивает и обижает.
– Нет! Мы не займемся! Мы будем их дискриминировать, потому что у нас тоже репрессирована чувственность, нам самим в девяносто лет снятся юные тела и их символические заменители! Мы не дадим! Мы не позволим! Человечество стоит на краю СПИДа!
…Какой-то там юношеский роман с телевизионно-признанным суперменом. Прогулки у моря и чтение Пастернака под визги чаек, ночные прибалтийские бары, перенасыщенные запахом кофе и хороших духов. А потом однажды внезапный отъезд под утро и странная записка. И лет через пять случайная встреча в гостях, когда оба не можем попасть дрожащими сигаретами в пламя зажигалки.
– Я не поняла, что случилось.
– Дело в том… Дело в том, что я был в постели не на высоте.
Не на высоте – это что? Это где? Сумасшедший мир мужчины, в котором половой акт сдается, как ленинский зачет. В котором надо работать не на партнершу, а на оценку. Потому что никогда не остаешься с женщиной один на один. Потому что вокруг любой постели, поляны, скамейки, машины, внутри которой вы оба замерли, обвороженные тактильным контактом, на стульях с высокими спинками сидят представители референтной группы и лишенными гормонов голосами говорят:
– Давай, старик! Мы смотрим! Ты должен оправдать наши ожидания!
* * *
Вот уже много лет мне неинтересно быть пушечным мясом оправдания чужих ожиданий. Следует ли из этого, что я оправдала собственные? Моруа говорил, что ни одна женщина не наскучит даже самому выдающемуся мужчине, если будет помнить, что и он тоже человек. Этот принцип работает и наоборот.
Мужчина в среднем есть существо, клюющее на азартную внешнюю смесь греха и невинности до момента, пока он не может установить пропорций. Здесь его главные эрогенные зоны, ему хочется одновременно развращать и кастрировать вас; водите по этим эрогенным зонам пальчиком – и вы получите все: нежность (если у него было нормальное детство), деньги (если они вам нужны), душу (если у вас хватит опыта и смелости иметь ее в контексте отношений), потому что ему нужны не вы, а власть над вами. Если же по недомыслию или феминистской ориентации вы засветите собственный интеллект, собственную привязанность или и то и другое… вы проиграли. Потому что в девяноста девяти случаях из ста его занимает не ваша кожа и запах ваших волос, а иерархия властных функций. И количество ваших оргазмов он носит, как звездочки на погонах. Какая тоска!
Исключение составляет А., к которому написано это письмо. Но если референтная группа сваливает со своих стульев, когда он прикасается к вам, то все остальное время она сидит у него внутри головы, набитой рифмами и линиями, потому что он решил рисовать и писать, вместо того чтобы жить. Эти, на стульях, конечно, уделали его как могли. Прятаться от них он научился только в женское тело.
* * *
– Какой у вас вид из окна, – завистливо сказала я одной очаровательной журналистке.
Мы пили кофе, и окно над ее письменным столом, обращенное внутрь Садового кольца, обнимало пестроту крыш московского центра.
– Да. Красиво. Я живу здесь месяц. Это квартира моего нового мужа. А вон там, видите, тот серый дом, центральные окна без занавесок? Там живет мой прежний муж. И если взять полевой бинокль, то видно все во всех подробностях. Мой прежний муж не знает, где я живу, и когда к нему приходит новая дама, а это бывает каждые три дня, я звоню и даю всякие издевательские советы. Он сходит с ума. Он решил, что после развода я стала ясновидящей. Однажды он даже начал занавешивать окна простыней, я тут же позвонила и говорю – мол, не старайся, я и через простыню вижу. Тогда он начал бить посуду. Стоял и минут двадцать сосредоточенно бил сервиз, который нам когда-то подарили. Жалко сервиз.
– А его не жалко?
– Его? В наш дом не могла войти ни одна женщина, чтоб он ее не трахнул на пороге, объясняя мне, что я зажатая и со мной в постели неинтересно. В результате мне удалили матку, а потом я встретила человека, которому показалась незажатой и интересной. – Она поднесла к глазам бинокль и усмехнулась: – Сегодня у него опять новенькая. Совсем несовершеннолеточка. Хотите посмотреть?
И она усмехнулась так, что я увидела тяжелый луч из серого воздуха, летящий из ее несчастных глаз в далекие незашторенные окна и обратно. Я увидела, как страшно жили эти люди и как страшно остаться каждому из них теперь без достоянья обид, потому что на общее время супружества можно повесить ярлык «я был (а) несчастен (стна)» вместо «мы были несчастны, и это нас устраивало».
А самыми грустными персонажами выглядели дети на фотографии, они усиленно изображали счастливое детство с дорогими игрушками. А какое уж там детство, если у мамы с папой плохо в постели, ведь, не став «мужчиной» и «женщиной», люди не могут стать родителями. Не завоевав права на половую принадлежность, они вынуждены оставаться детьми. Большая часть людей, с которыми меня сталкивала жизнь, были детьми детей.
* * *
Я и мой приятель, немец из Кельна, пили шампанское в депрессивно-ободранной комнате, только что купленной нашими друзьями. Собственно, немец жил в этой комнате, чтоб сэкономить на гостинице и пропить деньги в московских компаниях, где за те же марки можно было получить в десять раз больше выпивки и в сто раз больше душевности, чем в Кельне.
– Мне тяжело находиться в этой комнате, пока я не напьюсь до бесчувствия, – говорил он. – Как только я закрываю глаза, мне кажется, что по мне бегают белые крысы. Я вскакиваю и чувствую себя на пороге суицида. Мне очень плохо здесь, но мне плохо и в Кельне, к которому я привык. Я поздно встаю, немного работаю, потом пью, потом снова работаю, потом еще пью, сажусь в машину и еду по разным кабачкам, где болтаю с друзьями и знакомлюсь с женщинами. Периодически я напиваюсь до состояния бесчувствия, и утром у меня ощущение, что я вышел из тупика и у меня появились силы жить. Я имею несколько друзей, которым могу рассказать всю правду о себе. Это очень важно для меня, потому что о душе у нас принято разговаривать только с духовником и психоаналитиком. Моя любимая фраза из Чехова – не знаю, правильно ли я ее перевожу – «Погода была достаточно хороша для того, чтобы повеситься!». Ах да, еще у меня есть дочь. Я очень люблю ее и навещаю по выходным.
* * *
Я и мой приятель, диссидент, навсегда вернувшийся из американской эмиграции, пили кока-колу в машине возле ночного коммерческого киоска, перед которым бойко, хотя и невооруженно, разбирались в своих винно-сигаретных интригах хозяева киоска, рэкетиры с незамысловатыми лицами и их накрашенные девчушки в шортах и бриллиантах.
– Я чувствую себя белогвардейским офицером, вернувшимся в совдеп, претензии которого на заслуги перед отечеством безумны и бессмысленны. В возрасте этих ребят я уже сидел в тюрьме. И что? В результате это не сделало счастливыми ни их, ни меня. Я чужой в России и чужой в Америке, я чужой своим и самому себе. Я понимал, как бороться с режимом, но я не понимаю, как бороться с депрессией и одиночеством. Я чувствую себя обворованным, но не знаю, кому предъявлять счет, – печально констатировал мой приятель. – Моя дочь живет в Америке, но боюсь, что мне нечему научить ее.
* * *
Я и А., к которому написано это письмо, пили вино в баре Дома актеров, заселенном юными клерками и юными секретаршами юных фирм.
– Я наконец свободен. Я совершенно свободен и одинок в Париже. Я наконец живу той жизнью, о которой мечтал всегда.
Ностальгия – острое чувство, но оно вовсе не означает, что надо возвращаться. У меня закончились отношения с той географической единицей, в которой ты проживаешь. Ты все время структурируешь жизнь, а я все время ломаю структуру. У меня есть своя походка, и я не потерплю ни страну, ни друга, ни женщину, которые заставят меня ее менять. И еще я не хочу знать, сколько мне лет, потому что я в принципе не знаю, что такое время. Ты хочешь сказать, что в этой стране я кому-то нужен? Посмотри на этих людей вокруг – им ничего не нужно. Они сами себе не нужны – впрочем, как и я, – говорил он, мрачно обводя бар глазами цвета меда.
* * *
Лишние люди по убеждениям. Таких любят, потому что им нельзя помочь в принципе и их слишком легко одарить в частности. Они умеют создать температуру короткого счастья, задыхаются в ней и бегут в беспорядке от себя и от своих скоропостижных возлюбленных. Мазохист от страдания получает не удовольствие, а разрешение на удовольствие. Но получение разрешения так изматывает его, что он вынужден остановиться на разрешении как на самостоятельном удовольствии. Доведенный до фарса христианский комплекс вины. Счастье – это все же готовность к удовольствию без последующей расплаты за него. Но этого нет в нашей культуре, и если оно приходит, то только вопреки, случайно, обманом. В каждой своей любовной истории, как истинные путешественники, утром они считают новый город самым красивым, а вечером – что все города похожи друг на друга. Они никого не любят, в том числе и себя, но они любят любовь и любят ее без взаимности. Вечно обиженные подростки, предъявляющие счет всем компонентам мироздания, кроме самих себя.
* * *
– Я купила импортный телефон, – сказала моя подруга, русская писательница с грузинским менталитетом, – и никак не могу прочитать инструкцию к нему. Он дорого стоит и умеет делать десять операций. Я освоила только две и вполне этим довольна. Мне кажется, что мужчина в основном тоже привык осваивать две операции с женщиной. Поэтому ему не всегда понятно, в чем разница между секретаршей и директоршей, и он не понимает, зачем за вторую надо дороже платить из своих внутренних ресурсов. И стоит ли. Или понимает, но платить нечем. То же самое количество операций мы все осваиваем и с детьми.
* * *
Одна дама-шестидесятница, приятная во всех отношениях и задающая тон в узеньком, но все же рукаве нашего культурного процесса, в редакционной склоке кричала:
– Самые страшные люди нашего века – Маркс и Фрейд! Маркс выпустил в мир коммунистов, а Фрейд – толпы девиц без комплексов! А люди без комплексов – это люди без моральных норм!
Поскольку в ее «таблице Менделеева» я почему-то занимала место «девиц без комплексов», возражения не работали. Слово обрастает шубой, как скатанный ладошкой снежок, и даже дама, отдавшая всю свою чувственность отечественной словесности, а не противоположному полу, уже не в состоянии вычленить изначальный снежок из снежной бабы. Без комплексов чего? Без комплексов полноценности? Что это такое за отдельные моральные нормы для полноценных и неполноценных? И по какому праву неполноценные устанавливают их для полноценных?
Я очень хочу свободы, связанной с ощущением полноценности, и всем того же желаю. Я карабкаюсь сквозь бетонные стены семейного сценария, сквозь барщину опыта в совковом браке, сквозь решетку тоталитарных запретов, проросших сквозь тело.
– Права человека… – шепчу я как «Отче наш» и вряд ли двигаюсь от этого в сторону, противоположную моральным нормам, потому что как же можно хорошо относиться к человечеству, гнусно относясь к себе?
И я умоляю свою психоаналитичку снимать с меня все новые и новые пласты омертвевших комплексов и выползаю из них, как змея, в коже с иголочки и потрясенно обнаруживаю, что солнце и листва становятся яркими, как в детстве, и детски непосредственными становятся вкус яблока, запах цветущей липы, шершавость ее ствола.
– Разве так бывает? – спрашиваю я.
– Конечно, – отвечает подруга. – Выздоравливающий человек переселяется в выздоравливающий мир.
– И можно всех переселить?
– Нет. Только желающих. В основном людей устраивает быть несчастными. Ты вышла из сценария, и судьба побежала тебе навстречу с подарками. Людей устраивает жить в родительском сценарии, они говорят, думают и действуют готовыми блоками. Мало кто выбирает жанр для каждого дня и даже для целой жизни не потому, что это трудно, а потому, что страшно не быть как все.
Как говорил один лингвист, «никто не разговаривает таким новым языком, как свежий дурак с мороза». Я влюбилась в А., к которому написано это письмо, за то, что он разговаривал и жил именно «как свежий дурак с мороза». Он не произносил ни одного дежурного слова, у него никогда не бывало взгляда, не пропущенного через душу. Ему это не удавалось. Он выглядел как человек среди автопилотов.
У моего любимого поэта и друга Александра Еременко есть такие строчки:
Все это называлось детский сад
И сверху походило на лекало.
Одна большая няня отсекала
Все то, что в детях лезло наугад.
Ох, как я выучила жесты и походки этих нянь! Как легко их вычислить по открытым асексуальным лицам и голосам, напружиненным истиной в последней инстанции. Одна из этих нянь кричала о Марксе и Фрейде. Я примерно все о ней знаю. Она хорошо училась, была тихой и гордой той самой гордостью, которая не от щедрости, а от бедности. Ее никогда не выбирали на танцах, но она лучше всех готовилась к экзаменам, боялась модных шмоток, темноты и одиночества. Ей нетрудно было бороться с плотью потому, что к переходному возрасту родители уделали ее так, что на пепелище можно было только разложить собрания сочинений классиков. Муж достался из того же вида спорта, но потенциальный неудачник. Садомазохистские переживания заменили сексуальные. Все побочные романтические истории были обречены с первых шагов, как все истории, начинающиеся с судорог страха вместо судорог сладострастья. Я никогда не видела ее детей, но беднягам придется прорабатывать все ее проблемы, потому что самое страшное, что может предложить вам детство, – это мать с репрессированной чувственностью, которая введет вас в пластмассовый мир.
* * *
От этих нянь сбежал А., к которому написано это письмо. Он сбежал и придумал жизнь, которая бы предельно их раздражала. Он ходит по французским улицам с белым бультерьером, разговаривает по-английски и пишет по-русски. Вроде бы полное безумие, но с другой стороны – «так и надо жить поэту». А кто такой поэт, если не недоигравший в детстве ребенок?
* * *
На прошлой квартире у меня была соседка Нина, простая добрейшая женщина, страшно эмоциональная, но расправившаяся со своей жизнью так, чтобы все переживания происходили только в области того, что кто-то болеет, а что-то дорожает. Она самозабвенно читала плохие книжки о любви и смотрела плохие фильмы о той же любви. Она дралась в очередях так, как будто от этого зависит вся жизнь. Она общалась с детьми так, как будто слон ей наступил на ухо. Орала, когда категорически нельзя было орать. И наоборот. Ее красавец муж регулярно ходил на сторону, от чего она переживала звездные часы мазохистских утех. Короче, она была несчастна по определению.
Однажды мы с Ниной пили кофе, и она, озабоченная противоположным полом меньше, чем кто бы то ни было, задумчиво сказала:
– Я бы так хотела переспать с Эльдаром Рязановым…
Я поперхнулась кофе и долго откашливалась. В пантеоне телегероев Эльдар Рязанов казался мне далеко не первой фигурой для вожделений.
– Почему именно с Рязановым? Как такое может прийти в голову? – недоумевала я.
Нина долго молчала, сосредоточенно курила, а потом с вызовом, адресованным мне столь же, сколь и всему человечеству, выкрикнула:
– Он – добрый!!!
Она умерла в возрасте пятидесяти лет, надорвавшись не под тяжестью сумок и уборок и не от ужасов новой экономики. Она умерла от отчаяния одиночества в семье, которую сама построила, от собственной женской нереализованности, от бессмыслицы бытового конвейера, в который она поставила себя как в единственный конвейер жизни. Ее никогда никто не любил, и весь пыл души она отдала переглаженным, накрахмаленным простыням и вылизанным полам. У нее был невроз порядка, она все время выискивала и ловила в коврах какую-нибудь ниточку или мусоринку, компенсируя этим беспорядок в душе, которую ей было нечем накормить. Бедная Нина! Как она была бы счастлива, если б умела!
* * *
Я с большим подозрением отношусь к неразделенной любви. Романтизация неразделенной любви – это романтизация саморазрушения. Неразделенно любят люди со сниженной самооценкой, они выбирают нереальный вариант, потому что отапливают собственную жизнь отрицательной эмоциональностью. Им естественнее реализовывать чувственность страдая, и повернись объект вожделений к ним лицом, они просто не будут знать, что с ним делать, потому что их родители и их правители не выдали им документов на право пользования счастьем. Я не верю в любовь, если в нее не вкладывают поровну. Отношения двоих должны быть копилкой, в которую оба бросают монетки, и когда она наполнится и будет вскрыта, только общие деньги смогут оплатить взаимное доверие, иначе любой союз превратится в список взаимных долгов. И никто не выиграет, потому что вампиры всегда еще несчастнее своих жертв.
* * *
А., к которому написано это письмо, прочитав посвященный ему рассказ, сказал, что он написал бы рассказ от своего имени, в котором все выглядело бы наоборот. Зачем? В споре никогда не рождается истина. В споре не рождается ничего, кроме обид. Тем более в споре о любви.
С А., к которому написано это письмо, я пережила перламутровые отношения. Слово «перламутровый» катится, как волна, вытягивает губы, как поцелуй, в нем заключены акварельная пестрота и игра световых плоскостей, как в поворачиваемой раковине. Скоропостижные романы существуют для того, чтобы люди вышли из них более защищенными, чем вошли. У них не бывает сил изменить жизнь влюбленных, но достаточно средств, чтобы изменить их самооценку. Они придуманы как праздник, а праздник – это то, что строит, а не то, что рушит.
* * *
Когда мне было лет семнадцать, надо мной шефствовал один яркий шестидесятник. Он возился с моими стихами, снабжал запрещенной литературой, таскал во взрослые компании. Однажды я встретила парня, которому стала настырно объяснять, что мы хорошо знакомы. Перебрав все возможные варианты пересечений, мы призадумались.
– Странно, – сказала я. – Но мне так привычна твоя жестикуляция, твоя манера говорить, поправлять волосы… Это похоже на Ю. – И я назвала фамилию шестидесятника.
– Ю. – мой отец, – сказал парень после огромной тяжелой паузы.
– Как странно! Он никогда не говорил о тебе. Только о дочерях.
– Он не знает, что я есть. А я знаю, что он есть. Я слежу за ним, читаю все его статьи…
– Послушай, Ю. – такой гениальный человек! Мы завтра же придем к тебе в гости.
– Ты что, действительно можешь меня с ним познакомить? – вытаращил он глаза.
– Да просто сейчас позвоню – и он придет!
– Нет, нет, сейчас не надо. Лучше завтра. Я должен подготовиться.
– …Как его фамилия? Да, да… Это может быть, – зевая, ответил Ю. в ответ на мой истерический телефонный звонок. – Одна некрасивая редакторша в молодости… Она потом внезапно исчезла. Мне намекали, что родился ребенок. И что? Похож на меня? Знакомиться? Ну уж от этого увольте. Мы прекрасно жили друг без друга всю предыдущую жизнь и прекрасно проживем дальше. Он гордится мной? Пусть гордится, если это ему необходимо…
– Но ведь вы всегда жалели о том, что у вас нет сына! Вы всегда мечтали о преемнике! У него такое одинокое лицо! Он так нуждается в вас! – вопила я, и он сдался под моим натиском.
На следующий день мы отправились в гости.
Комната была набита народом, стол был уставлен бутылками. Парень позвал всех, кому хотел продемонстрировать происхождение. В прихожей он и Ю. испуганно пожали друг другу руки. Весь вечер Ю. не закрывал рта. Он блистал, и сын купался в лучах его славы. Он пожирал отца подернутыми влагой влюбленными глазами. Когда все разошлись, Ю. подал руку для прощания.
– Я… Мне… Хотел посоветоваться, – сказал сын картонным от страха голосом. – Мне предлагают идти в аспирантуру… А я…
– Да, да, – ответил Ю. холодно. – Я вам как-нибудь позвоню. – И вышел к лифту.
Когда мы ехали обратно, он сказал:
– Мальчик мне неинтересен. А вот жена у него хорошенькая, я бы за ней приударил. Впрочем, носик великоват.
Больше они никогда не виделись. Вскоре сын эмигрировал. А еще через несколько лет Ю. умер. Его хоронили в закрытом гробу, потому что он пролежал почти неделю в своей квартире, набитой антиквариатом, пока бывшие жены и многочисленные любовницы не сообразили, где его искать.
* * *
Одна пожилая женщина, вдова человека, умершего от пьянства, очень хотела внучонка. Ее сын, потомственный алкоголик, женился на пьющей девице, отец которой по пьянке зарубил топором не менее пьяную мать. Молодые радостно существовали в выбранной системе координат, однако никак не могли зачать потомство. Соединившись, их проспиртованные клетки никак не превращались в беременность.
И тогда пожилая женщина выяснила, что в городе Питере есть институт, в котором за энную сумму в лабораторных условиях старания молодых могут увенчаться успехом. Недолго думая, она продала корову и, вручив деньги, отправила сына с невесткой в колыбель трех революций. Сладкая парочка приехала в институт, пропустив дни возможной беременности, и тут же с горя пропила все денежки. Пожилая женщина, узнав о крахе, долго плакала, а потом вытерла глаза рукавом и сказала:
– Ничего, вторую корову продам, а внучонка себе сделаю.
* * *
Отношения детей и родителей – самая будоражащая тема, самое скользкое «что делать?» и «кто виноват?». Моя подруга, занимающаяся миссионерской опекой инвалидов, поставила передо мной задачу, к которой я периодически возвращаюсь без всякой надежды на ее разрешимость.
Двое молодых людей на инвалидных колясках вступили в брак. Женщина обнаружила беременность, а администрация дома инвалидов, в котором пара проживала, потребовала аборта. Вопрос задачи – где больше нарушают права человека:
– при насильственном аборте?
– при сдаче ребенка в детский дом – ведь родители не в состоянии даже взять его на руки?
– при удовлетворенном требовании родителей, чтобы некто, какой-то «кто-то» (благотворитель, государство и т. п.) обеспечил их родительскими правами, не требуя от них родительских обязанностей?
Ответа я не знаю.
* * *
Должны ли люди, не готовые к роли взрослых, рожать детей? Где граница, с которой начинается взрослость? Не там ли, где начинается ощущение полноценности, и тогда человек идет к любви и творчеству без потребности опекать и совершенствовать не уничтожая, потому что доверяет себе как создателю. Потому что собственное совершенство рассматривает как путь к свободе, а не как путь к удобству. Банальность…
Однако Матисс говорил: «Не бойтесь банальности», – когда рисовал первозданный детский мир без комплексов.
* * *
А., к которому написано это письмо, будет читать его в не меньшем недоумении, чем все остальные. Он будет искать в нем подтекст, и я уверена – найдет, хотя какой уж тут подтекст, тут и текст не ахти. Тем более что оно вовсе не последнее в бессмертном жанре болтовни женщин со своими бывшими возлюбленными.







