Серия «RED. Fiction»
Серия включает 6 книг
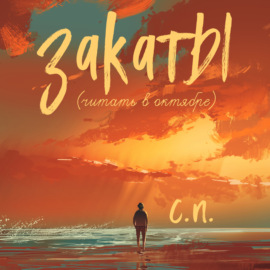
000
добавлено 2023-06-14 10:04:27
«Закаты (читать в октябре)» – это великолепный шанс прикоснуться к тому, что обычно таится за шторами людских мыслей. Эт...

000
добавлено 2022-06-02 10:09:53
Волшебные артефакты – вещь своенравная. Если они хотят, чтобы ты шел по их зову, они обязательно этого добьются. Как раз...

000
добавлено 2022-02-11 14:15:11
Вернувшаяся в родную деревню после неудавшегося замужества, Варвара собирается начать новую жизнь. Здесь она встречает с...

000
добавлено 2021-12-10 12:52:52
Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней.

000
добавлено 2021-09-23 10:05:48
Жизнь молодого программиста Германа Шахматова едва ли можно назвать пределом мечтаний: работа не приносит удовлетворения...



