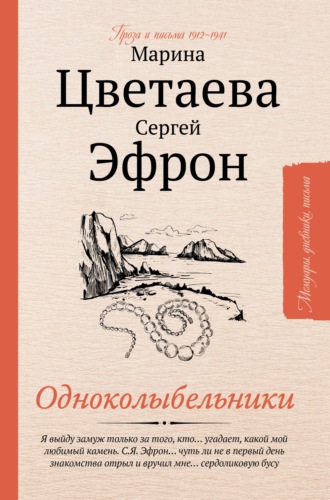
Марина Цветаева
Одноколыбельники
– Секрет? Тогда не надо. Слушай, Кира, ты не знаешь, когда вернется мама?
– Мама вернется в половину седьмого. Вы, может быть, хотите пойти в гостиную?
– Зачем? Мне и здесь хорошо.
– Гости всегда сидят в гостиной, – не знаю почему. Только вы не думайте, что мы не хотим с вами сидеть. Мы очень рады, что вы пришли. Правда, Женя?
– Мы очень рады, – серьезно подтвердил тот.
– И я очень рад, что вы очень рады! – весело воскликнул Юрин папа, усаживаясь в кресло у окна. – Давайте болтать, хотите? Каждый пусть говорит, что придет ему в голову. Начинай ты, Кира.
Я сел на ручку кресла, заболтал ногами и почувствовал себя необыкновенно свободно.
– Если бы я был царем, я утопил бы в море всех коров, чтобы больше не было молока. А потом я всем людям велел бы выдумывать песни, чтобы все ночью приходили ко мне и пели. А сам бы я лежал в гамаке и смотрел бы в трубу со звездочками – знаете, такие пестрые звездочки и все всё время меняются? Нет, я передумал! У меня была бы мышь, такая заводная. Нет, она была бы настоящая, только об этом никто бы не знал. Каждое утро она уходила бы от меня и каждую ночь приходила и все рассказывала бы. Она все знала и видела бы… Нет, я передумал! Я бы…
– Теперь я буду рассказывать! – властно перебил Женя. – Я, когда буду большой, поеду отыскивать Людовика XVII. Это был бедный маленький мальчик. Его посадили в тюрьму, а он никому ничего не сделал. Потом он умер или пропал. Я думаю, что он жив. Я непременно найду его!
– Теперь я скажу: когда вы вырастете, вы оба будете поэтами. Поэт – это тот, кто пишет хорошие стихи. Вы знаете какие-нибудь стихи?
– Еще бы! «Капля дождевая говорит другой»… «Черногорцы? что такое? – Бонапарте вопросил…»
– «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»
– «Посмотри, в углу мерцая, светит огонек…»
– «Что ты ржешь, мой конь ретивый?»
– Попрыгунью-Стрекозу!
– Вы, может быть, и песни какие-нибудь знаете?
– Много!
– Какие? Спойте мне что-нибудь!
– Русскую или французскую?
– Французскую!
– Про biquette, хочешь? – шепнул я Жене.
Ah, tu sortiras, biquette, biquette!
Ah, tu sortiras de ce chou là![15]
– быстро и громко запели мы.
Юриному папе наше пенье очень понравилось, и он попросил еще. Но мы уже выдумали другое: ставить рядом с ним наших фарфоровых кукол величиной с катушку. Мы бежали рядом с ним, согнувшись вдвое и держа у каждой его ноги по маленькой кукле.
– Теперь вы великан, а это карлики. Вы добрый великан, вы не должны их давить!
За этим занятием застала нас мама. Она поблагодарила Юриного папу за возню с нами и увела его в гостиную.
Мы приуныли. Напрасно щурились со стены милые звери – уже не хотелось ни пещеры, ни озера, ни рассказов. Попробовали представлять цирк – ничего не вышло.
После вечернего молока, принесенного в детскую Дуней, мы, молча раздевшись, нырнули в свои белые кроватки.
Сквозь дыру в занавеске было видно, как падает снег. Падает, падает…
Я зажмурился, прижал к себе подушку, свернулся клубочком и начал думать о длинной-длинной лестнице. Вот я ступил с последней ступеньки на предпоследнюю, с предпоследней на предпредпоследнюю, с предпредпоследней на предпредпредпоследнюю…
И вдруг все пропало – и ступеньки, и кровать. Я тихо падал куда-то, все падал, падал…
– Дети, вы спите?
Это мама вошла в детскую со свечкой.
– Нет, я не сплю! – отвечаю я, приподнимаясь на локтях, ‒ иди ко мне, мама!
– Нет, ко мне!
Женя тоже проснулся.
– Я сейчас ухожу, детки; мне только нужно рассказать вам одну новость. Вы слушаете?
– Да, да! Какую? Что случилось?
– Людвиг Эрнестович сейчас сообщил мне, что продает дом с флигелем и садом.
– Кто это – Людвиг Эрнестович?
– Брат m-llе Marie и m-llе Sophie. Он ведь сегодня играл с вами.
– Юрин папа? Брат? Женя, Женя, слышишь? Это тот самый monsieur Louis! – кричу я.
– Как странно! – восклицает Женя, просовывая пальцы сквозь сетку своей детской кровати.
– Значит, нам придется отсюда уезжать. Детский сад переводится куда-то за Москву-реку. К тому же вы начинаете забывать немецкий. У вас опять будет Fräulein, – говорит мама.
Я ничего не могу сказать от волнения. Детский сад за Москву-реку… уезжать… новая Fräulein… Да что же это такое?
– Мама!
– Спокойной ночи, деточки, завтра наговоримся. Спите, милые! – говорит мама, целуя сначала Женю, потом меня.
С минутку она еще стоит в соседней комнате. Я пристально гляжу на светлую полосу из-под двери. Полоса исчезла, – мама ушла.
– Кира, ты не спишь? Кира, слушай! – шепчет Женя со слезами в голосе, – неужели мы насовсем уедем отсюда?
– Знаешь, Женя, мне кажется, что все это нам снится. Завтра утром мы проснемся, и все будет по-старому.
– И я докончу про соловья, – успокоенно заключает Женя.
VIII
В доме укладывались. Целый день выдвигались ящики, опустошались шкафы, звенела посуда.
Везде на полу лежали груды полузавернутых вещей и книг. Дуня с ног сбилась, бегая из одной комнаты в другую.
На коленях перед сундуком стояла мама, не доверявшая никому укладывания своих любимых книг и вещей.
– Кира, принеси из гостиной альбомы, а ты, Женя, дай мне портреты.
Мы стремглав бежали исполнять мамино поручение. Когда у мамы в данную минуту не находилось для нас дела, мы шли к сестрам.
– Люся, дай мне поукладываться! Лена, хочешь, я тебе помогу? – приставали мы.
– Нет, нет, я сама! Только не мешайте! Я уложусь и пойду с вами гулять, – нетерпеливо говорила Люся.
– Тогда я Лене буду помогать! Лена, что тебе уложить?
Но Лена тоже встречала нас довольно холодно.
Мы чувствовали себя обиженными: разве они лучше умеют, чем мы? Вот мы уже давно готовы со своими вещами, а они все еще возятся. Чтобы избавиться от наших навязчивых услуг, нас посылали в сад. Каким грустным он был в этот день! Даже снежная баба не выходила – рассыпчатый снег не держался. Дорога к гроту была засыпана; зимний сад стоял пустой, – все растения исчезли. Их увезли в новый дом monsieur Louis, за Москву-реку.
– Зачем он продает наш дом? Разве можно найти лучше? – жалели мы. – Кто здесь будет жить? Кто будет лазить на наш грот? Может быть, его тоже сломают. Куда идти? Хорошо бы к m-llеs, но они тоже укладываются, и мы тоже им будем мешать. Как странно, что никогда больше не будет детского сада! А может быть, здесь будет другой?
Вечером, в семь часов, к нам пришли m-llеs, которых пригласила мама.
Услышав звонок, мы сами побежали открывать.
– M-llеs, вы когда уезжаете? У вас все уложено?
– Мы едем послезавтра; нужно еще кое-что докончить. А вы завтра едете?
– Завтра рано-рано утром.
Вышла мама.
– Bonjour, m-llеs! Как я рада вас видеть! Мальчики так много рассказывали мне о вас, – вы совсем их приручили.
– Да, мы были хорошими друзьями, – сказала m-llе Marie.
– Пойдемте чай пить, – предложила мама.
Как странно нам было видеть m-llеs за нашим столом!
Сначала мы знали только утренних, темно-синих, потом узнали пестрых, потом праздничных, а теперь они опять сделались новыми.
– Вас не очень измучили Кира и Женя? – спросила мама с улыбкой.
– О, нет! Напротив! – в один голос воскликнули m-llеs.
– Я так и знал, что вы так скажете! – торжествуя, воскликнул Женя.
Я молча пододвинул им варенье.
– Вы думаете продолжать свой детский сад? – спросила мама, обращаясь к m-llе Marie.
– Мы еще не знаем. Мы с Sophie, может быть, совсем уедем на родину.
– Мама, поедем тоже совсем на родину! – предложил Женя. – Мы там будем кататься на осликах. Ведь там все катаются – правда, m-llеs?
– По крайней мере, в наше время катались, – улыбаясь, ответила m-llе Sophie.
В эту минуту я заметил, что Женя мне усиленно подмигивает, указывая на дверь.
– Мама, можно нам пойти в детскую? Мы сейчас вернемся, – сказал я.
Мама позволила.
– Знаешь что, Кира? – захлебываясь заговорил Женя, как только мы очутились за дверью. – Я решил подарить им последний вагончик. Он все равно не прицепляется! Как ты думаешь, они обрадуются?
– Еще бы! А я тогда подарю… Что же мне подарить? Разве волка?
– Жалко! – протянул Женя.
– А ты думаешь, им не жалко было отдать нам на память швейцарские домики?
Женя задумался.
– С вагончиком-то я решил – он все равно сломанный! А волка я бы на твоем месте не отдал, он нам нужен для пещеры. Да, может быть, они и не сумеют с ним обращаться, еще испугаются, когда он зарычит! Нет, лучше подари им свою немецкую книгу. Знаешь, ту, без картинок, которую нам Fräulein подарила.
– Да, но понимают ли они по-немецки? – смутился я.
– Ничего! Поймут! – убежденно воскликнул Женя. – А если не поймут – не беда: она такая скучная!
Мы начали рыться в своей корзине. Когда мы вернулись в столовую, мама о чем-то оживленно говорила с m-llеs. При виде нас все умолкли, из чего мы заключили, что темой для разговора служили мы.
– Что вы делали? – спросила мама.
Мы, сконфуженные, спрятали подарки за спину.
– Кира, ты первый, – шепнул Женя.
– Нет, ты первый! Ты задумал, ты и должен начинать.
– Зато ты старший!
Последний довод сразил меня.
Я вынул из-за спины книгу.
– M-llе Marie, это вам и m-llе Sophie от нас на память за швейцарские домики.
И я положил свой подарок на колени удивленной m-llе Marie.
– Это тоже… за швейцарские домики, – пробормотал Женя, торопливо всовывая в руку m-llе Sophie свой вагончик и опрокидывая на нее мимоходом молочник. – Он все равно не прицепляется, – не помня себя от смущения, пролепетал он.
– Что не прицепляется, молочник? Во всяком случае он зацепляется, – сказала мама, вытирая салфеткой руки и платье m-llе Sophie.
Я ущипнул Женю за локоть.
– Я хотел сказать… Нет, это так! – быстро поправился он.
M-llеs были в восторге от подарков. Немецкая книга оказалась очень интересной (я никогда не думал, что она может кому-нибудь понравиться!); Женин вагончик тоже был одобрен, хотя в нем открылся еще один маленький недостаток: когда m-llе Sophie захотела пустить его по скатерти, он сперва жалко заковылял и тотчас же опрокинулся, вертя в воздухе двумя колесиками, – третьего совсем не оказалось, четвертое не работало.
– Это ничего, его можно отдать на вокзале в починку… – все еще скороговоркой оправдывался Женя. – Он только сейчас так сломался!
– Ну и Женя! Какого инвалида выискал! – смеялась мама.
– Мама, а ты что подаришь m-llеs? – поспешил я на выручку Жене.
M-llеs покраснели.
– Кира, Кира, разве так можно? Что с тобой? – заговорили они в один голос.
Мама вышла.
– Дети, разве можно ставить людей в такое неловкое положение? Что подумает о нас ваша мама?
– Ничего не подумает. Пойдет и принесет подарок!
Через несколько минут мама возвратилась со своей последней картиной в руках, изображавшей вид из окна на часть переулка и сад.
– Вот, пожалуйста, m-llеs, на память о моих сорванцах.
– Madame, madame, это слишком… Ваша доброта смущает нас… Такая чудная вещь…
– И рама золотая, – хмуро вставил Женя.
– Женя!!
Он смолк, бормоча что-то неопределенное.
M-llеs все еще продолжали благодарить:
– Эта картина всегда будет с нами, будет напоминать нам ваших деток, их добрую маму…
Но Женя не дал им окончить. Хмурый, с надутыми губами, он молча вынул картину из рук m-llе Sophie.
– Ты мне ее давно обещала. Я ее не отдам!
– Что ты, Женя? Я тебе еще такую нарисую! M-llеs уезжают!
– Но ведь я тоже уезжаю!
– Хочешь, я тебе подарю ту, с мельницей, твою любимую?
– Когда? Сейчас?
– Она уже уложена, но как только мы переедем, я сама повешу ее тебе над кроватью.
– Хорошо. Берите, m-llеs, – та мне больше нравится.
И Женя неохотно протянул картинку смеющимся m-llеs. Скоро они начали собираться домой.
– Останьтесь, посидите еще. Куда вы торопитесь? – удерживала мама.
– Вы только по одной чашке чая выпили! – повторил я фразу, часто слышанную мной в гостях.
– И варенье не доели, – добавил Женя.
Но они настаивали на своем: нужно укладываться. Мы все пошли провожать их в переднюю.
– Прощайте, дети, – говорили они, стоя уже в шубах, – не забывайте нас. Помните, что мы вас очень любили!
– Больше, чем Маргариту? – спросил я.
– Больше! Больше всех других детей!
– И мы вас тоже больше всех других детей и больше Жанны! – уже всхлипывал Женя.
У обеих m-llеs стояли на глазах слезы. Я упорно смотрел на блестящую булавочную головку в шляпе m-llе Marie. Вдруг она расплылась, во все стороны от нее пошли лучи… Что-то горячее упало мне на щеку.
M-llеs поцеловались с мамой, еще раз наклонились к нам.
– Прощайте, дети! Идите в комнаты, а то простудитесь, – сквозь слезы проговорила m-llе Sophie.
Скрип открываемой и закрываемой двери, – кончено.
…….............
– Ах, зачем я им подарил такой гадкий сломанный вагончик, который даже на ногах не держится! – всхлипывал Женя.
– А я такую гадкую немецкую книгу!..
Тщетно утешала нас мама, уверяя, что и вагончик и книга понравились, – мы так и легли в слезах.
На следующее утро, еще при свечках, мы навсегда покинули наш домик.
Наш садик
I
Остановившись у главной клумбы и потрогав пальцем темно-красную, только что распустившуюся розу, Женя сосредоточенно нахмурил брови и голосом, таившим какое-то важное намерение, произнес:
– Что по-твоему лучше – розы или гиацинты?
– Неужели ты не знаешь? Конечно, розы! – ответил я.
– По-моему, тоже. Но почему тогда розы растут на клумбе, а не под маминым окном?
– Потому что там гиацинты!
– Но ведь гиацинты хуже… – тут Женя указал глазами на мамино окно. – Какие-то длинные, белые, точно их забыли покрасить. Я бы на мамином месте непременно их всех повыкидал.
– Жалко: росли, росли… Вот если пересадить…
– Да, да, – оживился Женя, – гиацинты сюда, а розы к маме. Выйдет отличный сюрприз! Мы так давно не делали сюрприза!
– Помнишь, как последний не понравился? Эта глупая курица сейчас же вырвалась – только крылья подпалили. А кухарку с этой дачи помнишь? Как она кричала!
– Это все глупости, – сказал Женя, морщась, – мы тогда были слишком маленькие. Давай лучше перекапывать.
Мы засучили рукава.
– Хорошо бы теперь собачьи лапы! – мечтательно вздохнул Женя, раскапывая землю у самого большого куста.
– А куда бы ты потом с ними делся? – спросил я, пуская в ход перочинный нож.
– К обеду я бы надевал перчатки, а целый день ходил бы с лапами, – по крайней мере всяких глупостей не заставляли бы писать.
Несколько минут мы работали молча. Яма увеличивалась медленно. Главное затруднение было в корнях: длинные, скользкие, похожие на грязных червей, они глубоко уходили в землю. Особенно противные пришлось обрезать.
– Я думаю, им от этого ничего не сделается. У редиски всего один корень, а какая она густая, – сказал Женя.
– А верба совсем без корней, – растет себе в бутылке, – поддержал я.
– Оставим по одному корешку, – предложил Женя.
Работа закипела.
Жалкий вид имела главная клумба, когда мы за полчаса отчаянной работы вырвали из нее более половины кустов.
Но как умилялись наши сердца, представляя себе мамину радость!
Гиацинты, осужденные было на полную гибель Женей, не доставили нам ни малейшей трудности. Наскоро выкопав, мы свалили их на клумбу и занялись устройством роз. Времени оставалось мало; каждую минуту могли прийти и испортить нам сюрприз. К самому концу пересадки нас позвали обедать. Три куста пришлось оставить до после обеда, – папа не любил ждать.
– Где вы так долго были? – спросила мама, когда мы вошли в столовую.
– Это секрет, скоро узнаешь!
– А не секрет, почему вы не вымыли рук?
– Это тоже секрет!
– Все-таки пойдите вымойте. Нельзя сидеть за столом с такими руками. Точно вы ими землю рыли!
Мы переглянулись, посмотрели на маму; очевидно, она ничего не знала и сказала это только так.
Нечего и говорить, что мы за тем обедом ели очень мало. Каждую минуту глаза над столом и ноги под столом с молчаливой тревогой совещались о дальнейшем ходе сюрприза.
Подали третье. При виде яблочного мусса мы несколько оживились, и я уже подносил ко рту последнюю ложку, когда в соседней комнате послышалось сначала покашливанье, потом сдержанный шепот дворника Василия.
– Барыня, пожалуйте-ка сюда на минутку!
– Что тебе, Василий? – удивленно спросила мама.
– Извините, барыня, что я вас в неурочное время беспокою, да дело-то очень спешное. – В голосе Василия слышалась тревога.
Мама вышла.
Я взглянул на Женю: он смотрел в тарелку, точно увидел в ней что-то особенно интересное. Остальные как будто ничего не заметили: папа читал газету, сестры о чем-то спорили, Андрюша, как всегда, катал хлебные шарики.
Страшное возмущение овладело мной. Еще бы минутка, и сюрприз бы удался, нас бы целовали, хвалили… Покажу же я Василию! Что – я не успел додумать, так как в столовую вошла мама.
– Господа, вы кончили обедать? Тогда пойдемте в сад; там что-то странное с цветами сделалось. Василий никак не может объяснить, – сказала она, не глядя ни на кого в особенности.
Сердце мое сжалось, – слишком мало радости было в ее голосе и лице!
А вдруг сюрприз не понравится! Даже наверное не понравится! Но мгновенно вслед за этим – неоспоримый довод: ведь розы лучше гиацинтов.
– Что, собственно, случилось? Я не слыхал, – сказал папа, откладывая газету.
– Что-то с цветами. Я сама в точности не знаю. Идемте, господа!
Все встали. Мы вышли последними.
Василий ждал нас у клумбы.
– Только на минуту отлучился, как уж успели изгадить! И кому этакая пакость в голову придет? Экий грех! Попадись он мне, да я бы его тут же своими руками…
Действительно, у клумбы был жалкий вид: беспорядочно разбросанные гиацинты, куски корней, измятые бутоны, истоптанная и всклокоченная земля…
– Совсем помойная яма! – шепнул мне на ухо Женя.
У всех были серьезные лица. Мама о чем-то тихо советовалась с папой, Василий продолжал свои причитания, Люся, присев на корточки, собирала грустные остатки гиацинтов. Только Андрей, став спиной к клумбе, сочувственно подмигивал нам, – он тоже любил сюрпризы.
– Дети, это ваш сюрприз? – как-то слишком холодно спросила мама.
II
История с цветами окончилась так неожиданно блестяще, что мы готовы были с утра до вечера устраивать всем сюрпризы.
Правда, мама сильно огорчилась и выбранила нас за своевольное распоряжение чужой собственностью, но, во избежание подобных случаев, тут же отдала в наше полное владение запущенный кусочек земли в самом конце участка.
– Делайте в нем что хотите, – сказала она, – сейте, сажайте, копайте, выкапывайте, только ничего не трогайте в большом саду.
– Я тебе говорил, что сюрприз удастся! – сказал Женя по дороге в наши владения.
– Для мамы-то не очень…
– Придется для нее развести гиацинтов, раз она их так любит…
В голосе Жени боролись старое отвращение и удивленное уважение к маминым любимым цветам.
– За розами их не будет видно, – утешил я.
Наш садик пока не походил на садик. Четыре сосны и две елочки – вот в каком виде он достался нам. Под соснами находилась маленькая площадка со столом и скамейкой, тоже переходивших в нашу собственность.
Тачку, грабли, лопатки – целый набор детских садовых орудий, обещанный нам папой, – должны были привезти из города только на следующий день. В ожидании этого завтра мы строили планы.
Прежде всего мы решили окружить наш сад китайской стеной, о которой незадолго до этого нам рассказывала старшая сестра. Хорошо было бы сделать ее из камня, но где его взять? Придется помириться на дереве. Как раз у нас четыре сосны; их должно хватить не только на одну стену, но и на башню.
– Жалко, что здесь не море! – сказал я со вздохом.
– Чтобы мы одни катались на лодке? – быстро спросил Женя.
– Нет, для маяка. Но, конечно, у нас был бы корабль – разбойничий. У нас были бы черные плащи, большие шляпы, кинжалы, драгоценности.
– А на озере бывают такие корабли?
– На озере?.. Кажется, нет.
– А то мы сами могли бы устроить озеро. Вырыть его – вот здесь.
В этот миг младший брат Женя превратился для меня в мудрейшего из людей.
– Какой ты, Женя, умный!
– Вот видишь, я тебе всегда говорил, – был его скромный ответ.
Мы начали выбирать озеро.
Окруженные бархатными холмами; прозрачные, зеленовато-голубые, с подплывающими к террасе лебедями; синие, с повторенными в них снежными вершинами; затерянные в сосновом лесу; темно-зеленые, зацветшие лилиями; черные, страшные, ночные; пестрые от разноцветных фонариков на праздничных лодках; всклокоченные пеной и бурные, как море, – все озера, когда-либо виденные на картинках и описанные старшими, прошли перед нашими глазами.
Светлое и все-таки темное, гладкое и все-таки бурное, с пестрыми лодочками и все-таки со страшными разбойничьими кораблями, – такое озеро выбрали мы.
Наши дворцы (Женин – из розового мрамора, мой – из голубого) будут стоять друг против друга – Женин на мягком холме, мой на выступе скалы. От главного входа в каждый дворец спустится к озеру широкая лестница, на концах которой сядут два живых льва. У пристани, меж тяжелых кораблей, закачаются увитые гирляндами лодки с павильоном для музыкантов и разноцветными флагами. Каждый день у наших музыкантов будут новые платья и новые пьесы. Женя взял себе духовой, я – струнный оркестр.
Незаметно спустился вечер. Вспыхнули розовым пламенем окна дачи, повеяло сыростью, где-то слабо просвистел паровоз.
– Ничего, Кира! – сказал Женя, словно отвечая на какой-то мой вопрос. – Скоро здесь будет озеро, и мы всю ночь будем кататься с музыкой.
Мы встали.
– А может быть, не надо разбойников? – спросил я, вытирая о куртку мокрые от росы руки.
– Лучше не надо – они всех режут, дерутся… Нехорошо! – задумчиво ответил Женя.
– Идем скорей к маме!
И мы, взявшись за руки, побежали, то и дело оглядываясь назад, где на нашей земле покачивались в вечернем небе наши сосны.
III
Прошла неделя.
Первое слово утром и последнее вечером в течение этих шести дней было, конечно, – «озеро». Наконец, в седьмой, воскресенье, мы решили во что бы ни стало докопаться до воды.
Почему она не показалась раньше, нам стало ясно из рассказа старшей сестры о петербургском наводнении. Последнее случилось ночью, когда все спали. Значит, вода выступает из берегов только по ночам. То обстоятельство, что в Неве до наводнения уже была вода, а в нашем озере ни капли ее, как-то ускользнуло от нас.
«Выступает из берегов» – вот единственные слова, оставшиеся в нашей памяти из всего рассказа. Берега озера готовы, а раз есть берега, должна выступить и вода.
В последние вечера нам как-то особенно не нравилась наша детская. Вечное молоко на столе, вечные голубые одеяла, старательно подоткнутые под нас уже с девяти часов, вечное: «Спи, довольно болтать!» из соседней комнаты при малейшей попытке одного из нас поделиться с другим новым планом об озере, – все это казалось старым, давно конченным и слишком детским по сравнению с будущими вольными ночами на лодках или в залах наших великолепных дворцов.
Однако никто из старших не замечал перемены, происшедшей за эту неделю в наших лицах, словах и даже голосах. Часто при взгляде друг на друга мы не могли сдержать торжествующей улыбки – до того большим и деловитым казался мне Женя, до того серьезно-взрослым казался ему я.
В воскресенье за обедом полуснисходительный вопрос одного из гостей о результатах нашего «копания в земле» заставил нас окончательно принять втайне давно готовое решение – не возвращаться эту ночь домой, пока в глубине нашей ямы не зажурчит голубая прозрачная вода.
– Теперь нам надо по-настоящему приняться за дело, – сказал Женя, засовывая руки в карманы курточки.
Вид у него был решительный и строгий: откинутая голова свидетельствовала об уверенности все побороть, закушенная нижняя губа служила признаком новых важных забот.
– Мы не должны умереть с голода в нашей яме, потому мы туда возьмем самовар, самую большую колбасу с серебряной головкой, клубничного варенья к чаю и три банки с омарами.
– Только не клубничного, – поправил я, – мне его и так позволяют есть. Лучше малинового, с косточками.
– Нам еще нужно два подсвечника.
Мы тут же распределили роли. Я, как старший, принесу самовар, тяжелую банку с вареньем и подсвечники; на Женину долю остается утащить все остальное.
Дома, на наше счастье, оставались только сестры, – Андрей, по обыкновению, пропал, пользуясь отъездом в город папы и мамы, у кухарки были гости, горничная ушла в лес за ягодами.
До вечернего чая нам удалось добыть все, кроме самовара. О подававшемся на стол нечего было и думать; другой – старый – находился взаперти в кладовке, ключ от которой висел на гвоздике у дворника в сторожке.
Наскоро покончив с молоком, мы отправились туда.
– Кто будет заговаривать? – спросил я, когда между нами и сторожкой осталось всего шагов двадцать.
Женя с радостью предложил свои услуги.
– А мы к тебе в гости пришли, Василий! – невинно-ласковым голосом начал он, входя в маленькую душную каморку дворника.
– Мы ведь давно у тебя не были, – добавил я, следуя за Женей.
Василий при виде нас положил на постель свою гармонику, одернул рубашку и обычным приветствием пригласил нас сесть.
– Ну что, починил? – спросил Женя, садясь на табуретку и указывая пальцем на гармонику.
– Как раз кончил. Теперь будет как новая! А вы что же, Кирочка, не садитесь?
– Спасибо, я все время сидел. Какая у тебя интересная картинка! – воскликнул я, повертываясь к нему спиной и делая вид, что разглядываю наклеенные на стену обложки от мыла и фигуры из модных журналов.
– Ну, что мои против ваших! – скромно ответил Василий.
– Сыграй мне что-нибудь на гармонике! – попросил Женя.
Быстро обернувшись, я увидел спину Василия, наклоненную к постели. В тот же миг ключ был у меня в руке.
Самое трудное было впереди, а именно: выслушать хоть одну песню.
– Сыграй: «Ах вы сени, мои сени», – предложил Женя, легким толчком в спину извещенный мной о благополучном исходе дела.
Василий заиграл.
Ключ, крепко зажатый в кулаке, прямо горел в нем.
– Сени новые, кленовые реше-ет-чатыи… – подпевал Василий, быстро перебирая кнопки.
Женя напряженно глядел в дверь, словно прислушивался.
– Кира, нас зовут! – вдруг воскликнул он. – До свидания, Василий, спасибо за игру!
– Мы скоро еще придем к тебе в гости! – сказал я.
– Мало посидели! Я еще одну песню выучил, послушали бы. Ну а ежели мамаша али кто другой из старших зовет, нужно слушаться.
– Мы очень скоро придем! – утешал я.
– Приходите, приходите. Вот скоро варенье варить буду, вас угощу, – ласково провожал нас Василий.
– Как ты чудно заговариваешь! – воскликнул я, когда звуки гармоники сделались слабее.
– Я потом еще лучше научусь!
В проходе, где находилась кладовка, было темно. Нащупав замок, я дважды повернул ключом, и дверца распахнулась.
– Женя, зажги спичку! – скомандовал я.
Среди всякого старья – сломанной ванны, безногих стульев и корзин – стоял бабушкин самовар. Я с трудом вытащил его за дверь и, поминутно оглядываясь, понес в наш садик. Женя тем временем запер кладовку и пошел относить ключ на прежнее место. Было условлено, что он придет к озеру известить меня о судьбе ключа.
Я сел на краю ямы и, болтая ногами в пока отсутствующей воде, стал вглядываться в кусты, откуда должен был появиться Женя. Как задрожало мое сердце, когда из группы серых кустов вдруг вынырнула его маленькая светлая фигурка.
– Сошло! Его даже дома не было, – быстро заговорил он.
По прерывающемуся голосу было заметно, что он бежал сюда галопом.
– Сейчас мы пойдем спать, – сказал я, заранее любуясь его изумлением.
– Как спать?
– Так, очень просто. Когда Люся будет спать, мы выйдем на балкон и спустимся по столбам в сад. Теперь идем.
Люся уже сидела в детской. (Она любила возиться с нами и всегда в мамино отсутствие укладывала нас спать.)
– Вы опять в саду были? – с притворной строгостью спросила она.
– Да, захотелось прогуляться перед сном, – развязно ответил я.
– Совершенно напрасно: уже десять минут десятого – что бы мама сказала? Раздевайтесь скорей!
Собственноручно сняв с себя все, кроме лифчика (он у нас, как у совсем маленьких, застегивался сзади, за что пользовался нашей особенной ненавистью), мы молчаливо стерпели вождение Люси мокрой губкой по лицу и рукам и без обычных пререканий склонили к подушке старательно расчесанные Люсей головы.
– Вы себя сегодня очень хорошо вели. Я расскажу об этом маме, – сказала Люся, выходя с лампой.
– Спокойной ночи, Пудик, – крикнули мы ей вслед ее детское, данное за некоторую медлительность прозвище.
– Я вам дам «Пудик»! – донесся уже с лестницы ее смеющийся голос.
Несколько секунд мы молчали. Когда наконец проскрипела под лестницей дверь Люсиной комнаты, я окликнул Женю.
– Женя! Ты, кажется, спишь?
– Сам спишь.
– Не злись, не злись, я нарочно. Одевайся!
Мягкий стук босых ног о пол… Тяжелое пыхтение…
– Что с тобой?
– Он опять не застегивается!
(«Он» – это, конечно, лифчик).
– Так брось его, надевай прямо куртку. Чулки надел? Башмаки бери под мышку.
Когда одевание кончилось, мы тихонько прокрались на балкон. Ночь была звездная. Прямо перед нами покачивались темные тополя.
Трах… Трах… Это Женя выпустил из-под мышки башмаки. Секунд пять мы молчим, дрожа от ужаса и прислушиваясь.
– Лезь! – командую я, убедившись, что все в доме тихо.
Он обхватывает один столб, я – другой, и мы мягко скользим до самой земли. Теперь только дойти. Мы невольно беремся за руки. Кругом тихо-тихо, темно-темно. Только в окне сторожки – огонек.
Миновав главную клумбу, мы завернули в левую аллею, с нее на пустырь. Тут только Женя вспомнил о башмаках.
– Я точно в ванне купался – все ноги мокрые, – сказал он, останавливаясь и ощупывая чулки.
– Ничего. В озере еще мокрее будут.
– В озере я весь буду мокрый.
– Я думаю, вода «выступает из берегов» ровно в полночь, – удачно изменил я тему разговора.
– А она нас не затопит?
– Что ты, разве это Нева?
– А вдруг она затопит дачу?
– Ничего не затопит! Осторожно, здесь какая-то дыра.
– Это наша яма! – донесся уже снизу голос Жени.
За ним последовало всхлипыванье.
Я наклонился.
– Ты ушибся?
– Все ноги себе перебил! Говорил я тебе…
Женя рассерженно плакал.
– Не плачь, погоди, я сейчас слезу.
Тут земля под моими ногами подалась, я попробовал удержаться за траву, – трава осталась в моей руке, и я шлепнулся на что-то мягкое.
– Теперь я совсем как лепешка, – заворчало подо мной это мягкое.
– Женя, это ты? А я уже думал, какое-нибудь дикое животное! Где все вещи?
Женя молчал.
Я принялся шарить вокруг себя: вот самовар, вот, должно быть, варенье. (Хорошо, что я упал на Женю!). Вот подсвечники.
– Женя, давай зажжем!
– Давай! – смягчился он.
Я засунул руку в правый карман – пусто; так же дело обстояло и с левым.
– У тебя есть спички?
– Я их, кажется, в кладовке оставил.
– Как же мы зажжем свечки?
– У нас свечек нет, только подсвечники.
Мы вздохнули.
– Скоро полночь? А то мне надоело, – сказал Женя.
– Скоро. Послушай, кажется, начинается.
– Ну ее! Я и так весь мокрый.
Он стучал зубами, как в лихорадке.
– Давай пока пить чай! – предложил я.







