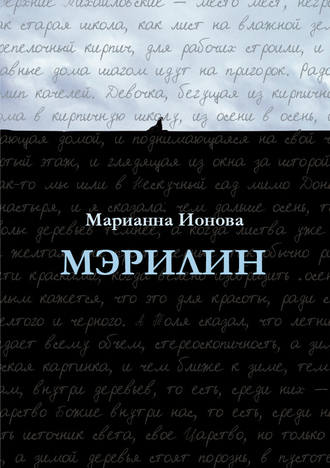
Марианна Ионова
Мэрилин
Далеко и долго
А.Т.
И все еще надеюсь оказаться когда-нибудь там, где буду счастлива.
Это будет однажды, а до этого надо молчать. Молчать значит жить. Значит, жить так, как дают, что дают, сколько дают. А потом коломенская радуга.
Там я буду я и только, а это место как будто ждало меня, как ждали меня две вазы с полевыми цветами, закипевший только что самовар, старая фарфоровая чашка и сочник на блюдце. Два окна на два угла, и две вазы: в одной вазе васильки, в другой васильки вперемешку с иван-да-марьей и мелкими ромашками.
Поворот на осень, и светофор у поворота – конец августа; с утра солнечно, потом день серый и зябкий, а вечером опять солнце; голубь прямо перед ногами, наперерез, и вдруг откуда-то из-под мыслей, из глубины: «Дитя».
Грозовой солнечный день – выйдешь на балкон, и там за горизонтом, в самой пронзительной платиновой грозе, в самой бесконечной Москве, есть места, где я еще не бывала, и как бы ни дразнило платиной и розовым кварцем, всего не объять, но даже и они, те места, уже внутри меня.
Путешествие за любовью. Так исходить все районы, все московские дали, поля, чащобы, и все окрестности, одиночным и одиноким походом. Я скитаюсь и странствую троллейбусом, метро, электричкой (скитаться не от слова ли «скит»), я еду в Коломну, потому что еще не все, еще не конец, но дальше уже нельзя. Как это называется, когда дальше уже нельзя, но еще не все? Темно-голубой дом с наличниками цвета молочного шоколада? С Преображения до Успения. Исчезнуть раньше, чем пропадешь.
Когда-то слово «желанный» на Руси значило совсем не то, что значит теперь. «Мой желанный», – говорила его мама вместо «мой дорогой». Город кончился, город себя изжил, и опять все желанное.
«Будто не уезжал», – говорит Желанный, и горлом я чую трепетную горчинку от вида сложенной, наконец, сошедшейся створами гармони.
Я исчезла или пропала? Дом почти на Оке.
Станция «Голутвин». Выхожу здесь впервые, ищу глазами и нахожу, он не окликает, не машет; я нахожу – улыбается, он меня увидел сразу. Он увидел, он нашел, он и ждет. Для меня самовар (хотя какой самовар – электрочайник), мытый пол, сегодняшний сочник, две вазы, мохнатые от цветов, лопнувшие цветами. Вечером будет топиться печь. Вечером будет гроза.
Толя берет мой рюкзак.
«Ну? Трамваем или автобусом?»
Его мать не дожила полгода до девяностолетия. Последние года четыре стала все хуже видеть, и ей помогал Николай. Откуда он взялся, Николай? Приехал помогать, когда реставрировали церковь. Приехал с одной холщовой сумкой, а пока помогал, жил у Толиной матери. Дом на Уманской улице, в центре, она продала, купила у самой Оки, с огородами. Церковь восстановили, Николай исчез, вернулся спустя три месяца – и купил дом по соседству, полусгнивший, приплюснутый, вылитая хибара. Бывшая его хозяйка и подруга дознавалась: из каких краев, кто родители, откуда деньги, как дальше… Деньги – продал городскую квартиру (опять же, какой город?), родители – научные работники, дальше – уже устроился кассиром в супермаркет, а еще будет выращивать помидоры (опять же, почему помидоры?). И выращивал, и покупали у него его помидоры, как у Толиной мамы – сезонные цветы.
Когда она умерла, Николай и послал телеграмму Толе; Толя потом говорил: «Первая телеграмма на мое имя за последние лет тридцать». На похороны он не попал, потому что еще отходил после операции, а приехал через полтора месяца, и Николай встречал его на станции, а в доме ждал только что закипевший самовар, т.е. белый, как чайка, электрочайник, и две вазы с цветами. И миска помидоров.
«Трамваем», – по-детски заказываю я.
«Напомни, когда ты здесь была в первый раз?…»
Я была здесь позапрошлой весной с родителями. Тогда жасмин цвел и яблони, между прочим. А теперь над заборами и под заборами яблоки: сама розовая ясность, сама прозелень утра в жестяных и эмалированных ведрах. Яблоки делаются из ненадышенных ранних утр. Яблоки охлаждают лето. Мы едем по улице Суворова и сходим на пересечении с Окским проспектом, где тот мелеет. Опять же, мелос. Преображение – завтра, выпало на воскресенье.
«Не могу жить без трамваев», – сжимаю Толину руку – страшно, как однажды придется без них.
В доме пахнут мытые половицы, сильно, как орошенные цветы на базаре. Тюль на окнах, кактусы-лампочки, самодельные стол и стулья, выкрашенные, той же, что и наличники, масляной краской, один в углу кондовый гарнитурный стул с «шишаками», блекло-гладкий, как пластмассовый буфет из 60-х и оттуда же по-настоящему пластмассовый абажур над столом – шляпкой груздя, бордовый кожаный диван, неприветливо тугой и низкий. Все от матери. Даже Николай. Вот он по-рыцарски на одном колене перед печью, складывает поленницей прелестные чурбачки.
Николай моложе меня, но выглядит старше. Я любуюсь его свежим, твердым лицом – яблоко на срезе. Волосы аккуратно отпущены, как у школьника-битла. Не подмосковный: длинный, кареглазый, и воздух вокруг него мягкий, и все движения как обернутые пуховым платком. Поднимется, сует мне ладонь.
«Во, подготовились», – подбородком показывает в глубину комнаты, а там тазы и корзины с яблоками.
«Анатолий Алексеич все норовит падалицы, а я говорю: трясти надо, не лениться!»
Толе смешно от усталости, он садится на диван, и я рядом. Николай мечет на стол целлофановые кули конфет, зачем-то быстро, быстро; говорит: «Побежал. На великах до грозы покатаемся?» – и слетает с крыльца.
«Чур, я сплю на полатях», – говорю я.
«Там пылища. Что ты вдруг? Раскладушка всю ночь в саду проветривалась. Смотри лучше, какой пир – гроза в воздухе»
Пир. Блеск приборов, атласное сияние скатерти. Толин стол обит клеенкой с изображением строгих продовольственных товаров.
Свет глазуревый, влажный, свет наливной непролитыми до праздника «наливами» и грушовками. Чего хочет от меня гроза? Половицы – слез, иван-да-марья – безумия, а чего хочет от меня гроза? Танца с русским платочком, китайским текстилем?
Я еще никогда не умирала в Коломне. Я еще никогда не праздновала и не улыбалась в Коломне, не засыпала под яблоки, не слышала, как они молятся и поют, и говорят предсмертно: желанный, желанная.
«А букеты составлял Николай?» – спрашиваю я.
«Нет», – отвечает Толя.
И светит нам хемингуэйевский самовар из сказки. И печь смотрит на нас.
Через час подкатил свой «Урал» к крыльцу Николай. Я на «Туристе», выезжаем и машем, а вдогонку: «Чтобы только успели…!». Двое худосочных, незадачливых пацанов.
Словно разминаем со сна педали, косолапим на великах по глинистому песку вниз к Оке. Едем вдоль берега, и я все дергаю шею вправо, откуда чайки. Николай на полметра впереди, но ему кажется, что я, неместная, еде плетусь, или что надо перекрывать голосом чаек, хотя они как-то грустны и вежливы. И он почти кричит, маяча красной бейсболкой: Анатолий Алексеич все время где-то шатается, а с его ногой ведь нельзя, и ему здорово нужны какие-нибудь «дисциплинирующие куры», огород и сад – «не то». Да и огородом и садом надо заниматься больше, надо растить на продажу, потому что деньги от квартиры быстро кончатся, Николай по себе знает, а весь ремонт металлических изделий тут у кавказцев, они чужого не пустят.
…Поедем по улице Октябрьской Революции в центр, через весь город, к улицам Яна Грунта и Арбатской, к Кремлю. А гроза – что ж такого: укроемся, переждем в Николаевом супермаркете, где сегодня у него выходной, или в какой-нибудь чебуречной-хинкальной.
Мы слезаем перед узкой косой, и с нее надсадно блестит всеми перьями-блеснами ива, и так же вода, и распаханное облако, но уже не пир, то есть, пир, но мы где-то у края стола.
«Не, – Николай жмурится, – Не поедем. Не надо. Далеко и долго»
Чуть подальше купаются, гомоня, но бревно на пологом склоне свободно, и мы садимся, точно в амфитеатре с единственной уцелевшей скамьей. И как я взглядывала на чаек, так взглядываю на лицо под дурашливым «клювом».
Толя говорил, что Николай не общается с ровесниками, зато «коллективный внук Окского района».
«У тебя есть друзья?»
«Мне с пожилыми интересно, – отвечает он, кажется, привычно, – И с Анатолией Алексеичем. Он и хоть не пожилой, но, понимаешь, негромкий…»
«А ребята, девушки…?»
«Да нет, – не сразу и как-то морщится, – Понимаешь… Они меня приглашают, а там пить надо, и все через час уже бухие в дым… Даже девушки. Знаешь, я тут каждую неделю пьяных девчонок вижу, и школьниц, и прямо семи-, восьмиклассниц! А я же не пью. Я как выпью немножко, у меня через какое-то время судороги. Я, наверное, не очень здоров. Но я понял: если не пьешь, большие трудности с общением…»
«Знаю»
«Что, тоже не пьющая?»
«Нет»
«Из-за здоровья?»
«Не совсем»
«Ты уж точно не нажиралась в восьмом классе, да?» -он не спрашивает, а широко улыбается, и мне кажется, что слегка свысока.
Они долетают до нас и поворачивают назад к воде, а по воде медленно бежит моторка, это про нее сказано «бороздит». Разве южные моря что-то там бороздит, что-то желанное и рассветное.
Мальчик «Орленком» бороздит наши борозды на песке.
«Как раз в восьмом меня напоили. Ребята постарше. Мне было четырнадцать, а им лет по восемнадцать, трое. Трахать не трахали, но заставили сделать им… С тех пор не могу алкоголь. Даже родители не знают, ты первый. Тогда я решила считать, что это была не я. Но это была я, потому что я помню…»
«Нет, нет, – Николай категорично мотает «клювом», -Все брехня, что мы чего-то там помним. Это была не ты, в чем и суть. Ты – это ты, ты здесь, эта ива – ты, и Ока – ты, и бревно, на котором мы сидим… И чайки. И яблоки – это ты»
…А грозы так и не было. Сухо мелькнула молния, ждали, вот сейчас застучит и не застучало.
«В ночь прольется», – немного презрительно обещает Толя, мол, от нас не уйдет.
Ночью проснулась от дождя и от дождя уснула.
Толя еще сидит у окон, два его голубых лица и четыре вазы с цветами.
Далеко отсюда в Москве огонек на банковском шпиле многоэтажного здания из стекла и каркаса краснеет для небесных колумбовых каравелл, бороздящих немое небо.
«Иногда я чувствую, что больше здесь не могу», – он сглатывает.
Слышно, как что-то беззвучное всколыхнуло ветер и сдуло первые листья. Наши мечты скрипят мачтами над Окой.
Если бархатная московская каравелла прилетит этой ночью за нами, кто утром пойдет святить яблоки?
Я еще никогда ничего не святила в Коломне.
Яблочная толкотня женщин на паперти, солнце и благовест колотят по ведрам. Что-то скромное и суетное, что-то родное, рыночное, с веселой слезой, просторная толкотня, иван-да-марья косынок. Яблоки здороваются и пихаются, а потом, маленькие, удивленные, ждут на ступенях. Сейчас батюшка выйдет и махнет кропилом, и точно смех во все стороны. И как они не взметнутся из корзин и ведерок на хозяйские руки, как не забьются крепенькими сердцами, как не мигнет, не исчезнет, не перегорит на миг.
Мы с Толей почти волочем по земле спортивную сумку. Отец Владимир рассказывает Николаю, аллегорией осени обнимающему эмалированный таз:
«Спрашиваю ее: «Какой сегодня праздник?». Она бойко так: «Яблочный Спас!». А я ей: «Пре-о-бра-жение Господне!…». А она глазами хлопает…»
«Николай непременно станет святым», – говорю я.
«Ну, до этого еще далеко», – выжимает Толя, ему вообще-то нельзя с ногой…
«Далеко и долго», – говорю я.
Днем тазы и ножи, вечером трехлитровые банки – Николай пойдет на рекорд, чистые – на варенье, тронутые – на повидло. Толя полулежит на диване, упираясь спиной в стенку и вытянув ноги. Я обвожу взглядом комнату и вдруг вижу, как неуютно ей в чистоте.
На подоконнике лежит ссохшаяся косточка абрикоса, выбеленная, как и положено кости, но не до белизны, то есть до белизны, только теплой, цвета стен южной крепости. Каким ветром сюда занесло абрикосы? Рядом деревянная катушка без ниток, тоже обглоданная, похудевшая и почти бело-палевая.
Николай выходит за мной, обгоняет, заглядывает в лицо, сжимает мое запястье.
«Ты приезжай чаще. А то он тут один, как перс»
«Как кто?»
«Как перс»
Я сажусь на «Турист» и еду через весь город, повторяя из проповеди: все мы призваны к, все мы призваны к. На Арбатскую и на улицу Яна Грунта, и на берег Москвы-реки, за которым Казанский вокзал.
Яблоки вдоль заборов притягивают грозу. Если быстро крутишь педали, видишь радугу от ведра до ведра. Мальчик и девочка идут взявшись за руки, нет, за корзину. Все желанное, не взрезанное до праздника. И один желанней другого, загораются огни на реке.
«До Успения обещают грозы, – говорит Толя, – Хочешь, съездим в Бобренев монастырь?»
Да, хочу. Давай съездим. А потом уедем отсюда вместе. Продадим этот дом, все равно ты вырос не здесь. Будешь жить у меня, я могу переехать к родителям или где-нибудь снять, хоть угол. А хочешь, оформим дарение, я тебе подарю жилплощадь, а сама перееду к родителям или угол сниму? Но вообще у меня две комнаты, из окна одной видно многоэтажное офисное здание, там на крыше реклама банка и шпиль-игла, и как только стемнеет, загораются буквы и огонек иглы, и к нему слетаются бархатные, беззвучные каравеллы. Они подолгу висят, покачиваясь, будто беседуют нараспев. Они видны в любую погоду. Они всегда остаются, когда нет уже ничего. Они не предадут и не позавидуют, в них не выстрелишь, язык не повернется послать им проклятие. Они ждут свои команды, когда-то уволившиеся на берег, лет тридцать или триста назад.
Но они никого не зовут. И я не зову тебя. Только лишь предлагаю: давай уедем. Все мы призваны к Преображению, а какое преображение здесь, где так много яблок и самовар все никак не остынет, пусть и нет самовара, и нет ухвата у печки, и нет вышитых Алконостов.
И я все еще надеюсь. И буду долго, как в песне, гнать велосипед «Турист». Мы возьмем в охапку твои букеты и, проезжая какую-нибудь лесистую станцию, бросим их из окна электрички, будто махнем кропилом, как отец Владимир на яблоки с их хозяйками.
Давай, а? До Успения обещают грозы, а мы смоемся, смоемся еще раньше брызгами кропила наотмашь. Все равно гроза полетит за нами, брошенная своей командой. Все равно увяжется, бархатная, беззвучная. А в карманах у нас будет по яблоку.
*
Москва, август-сентябрь 2012
Журавлик
Как только вошел, сразу открыл форточку, потому что скопилась тишина. И пыль. Я сел на подоконник и сидел минут десять.
Цветы в вазе за полгода почернели и раскрошились, очень похоже на пепел от бумаги. Пахло воздухом, и еще со двора тянуло гнильцой. На секунду я забыл, октябрь сейчас или апрель – они почти одинаково пахнут.
Я сидел, пока не стал мерзнуть. И не закрывал форточку, потому что во дворе перекликались за уборкой листьев киргизы.
Думал позвонить Ольге, но вспомнил, что пять дней назад по телефону сказал, когда буду в Москве. Перед отъездом был уговор друг другу не навязываться, и мне тогда показалось, что речь идет обо мне.
Ольга хорошая, но не такая хорошая, как ты сейчас, потому что ты спишь.
Вечером зашел Паша сверху. На нем были трусы, майка и лыжная шапочка.
«Ты спортсмен и я спортсмен, – сказал он, – Дай полтиник»
Паша и не заметил, что меня полгода не было.
Я дал ему сотню, чтобы хватило на две, как он это называет, «пробежки» до аптеки за настойкой боярышника, хотя его передвижение даже ходьбой назвать трудно. Ты осуждаешь меня, но не дал бы я, Паша вынул бы душу вместе со всей дворничьей зарплатой из безотказного киргиза.
Паша сообщил, что 51-ю квартиру сняли.
«Вот как? И кто?»
«Креативный класс», – ответил Паша, подумав.
Это ничего не значило: тот мог просто не дать Паше полтинник.
Вскоре я увидал нового соседа: мы вместе поднялись в лифте. Лет сорока пяти, плотный, ухоженный. Да, интересный, если для тебя это важно. Меня он заметно сторонился, понимал, что заметно, и нервничал из-за этого еще заметнее.
Я всегда, как приеду из экспедиции, избавляюсь от хлама, который особенно нестерпим на свежий глаз. Ненужные книги решил положить на подоконник между этажами – вдруг кто польстится, и, спускаясь по лестнице, почти столкнулся с молодой женщиной, даже девушкой. Вернее, это ты в меня не врезалась, хотя спешить тебе было некуда, верно?
Я положил книги и развернулся. Девушка стояла на площадке, привалившись спиной и затылком к стене и глядя вверх, в одну точку. Будто она устала от подъема и теперь собирается с силами. Худая. Тускловато-правильные черты, небольшие глаза. Русые волосы собраны в «балетный» пучок. Извини, но ты ведь не станешь доказывать, что ты красавица. Я и Милу не находил красивой, хотя глаза и волосы – большие и яркие.
Дальше ты знаешь: я спросил девушку, кто ей нужен. Девушка смутилась, вышла из ступора и пробормотала «Да так…» – и тут же назвала имя с фамилией, как я сразу понял, моего нового соседа. Только я прикинул, могу ли дать ей какие-нибудь достоверные сведения, как она дернулась с места, сделала два широких шага к его двери и стукнула растопыренной ладонью по кнопке звонка.
Тут словно кто-то шепнул мне: бежать, и я начал спуск по лестнице, но пролета через два понял, что веду себя как идиот и стал подниматься.
На площадке уже никого не было. Они стояли в прихожей: из-за двери смутно слышались голоса.
Я вошел к себе, а чтобы наверняка ничего не разобрать, открыл в кухне кран на полную и стал мыть раковину. Вскоре заболела поясница, и я пошел в комнату лечь.
Идя через прихожую, услышал-таки:
«Ты с самого начала придумала, будто у нас какое-то понимание без слов…!»
«Но ты сам говорил…! Ты сказал, что любишь меня!»
Зачем-то я остановился. Она несколько раз повторила эту фразу, «ты сказал, что любишь меня», с одинаковой интонацией, и каждый раз будто впервые.
Не успел я лечь на тахту, как соседская дверь хлопнула. Я прикрыл глаза, но не пролежал и минуты, встал и пошел в прихожую.
Не было шагов вниз по лестнице. Я приотворил дверь. Точно: ты стояла посреди лестничной площадки как вкопанная. Ты была так напряжена, что казалось, тебя можно сложить в несколько раз как столярную линейку. Руки прижаты к телу «по швам», пальцы топорщатся. Ты стояла, задрав лицо и зажмурившись, с открытым ртом. Если бы кто-то сейчас только появился на площадке, он подумал бы, что тебе очень хорошо. И тут из тебя пошли звуки – короткие выкрики, даже не очень громкие, вроде птичьих. Ты как будто пробивалась толчками: «А, а, а, а… А, а, а, а…». Хрипловато, словно сорванным голосом. А на конце каждого выкрика – вопрос. Или детское, невыносимое удивление. И радость, такая чистая, смешная.
Он, видно, ждал под дверью, когда ты уйдешь, потому что выскочил, схватил тебя и распорядился: «Скорую, живо».
Я подошел и сказал:
«Никакой скорой, уберите руки. Уберите руки, вам говорю»
Я разжал его хватку и выковырнул тебя, подтолкнул к своей квартире, и ты безропотно вошла со мной.
Я усадил тебя на кушетку в комнате и заметил слезу, которая натекла за крыло носа, и вытер ее согнутым пальцем.
Ты сидела и раскачивалась, прижав ко рту кулак. Не горбилась, не комкалась, а наоборот, будто закидывала себя вверх, и лоб был расправлен.
Я пошел на кухню и поставил чайник. Чайник вскипел почти сразу, я сыпанул растворимого кофе в кружку, залил кипятком, кинул туда кусок сахара и пошел открывать, потому что звонок орал уже полминуты.
«Послушайте, что бы она вам там не плела, имейте в виду, что у нее истерия!…»
Я захлопнул дверь перед черным банным халатом, надетым поверх белой рубашки.
Ты сидела уже спокойно, опустив плечи, отвернувшись к окну. Глаза даже успели высохнуть.
«Мне страшно, – сказала ты, – И холодно»
Я поднес тебе кружку и проследил, чтобы взяла как следует.
«Зачем теперь жить?» – спросила ты.
«Чтобы научиться жить не зачем»
Окно было распахнуто, и со двора, из чьей-то машины, неслась шуточная песня, герой которой мечтает бросить все и укатить на Лимпомпо. Ты стала подпевать, улыбаясь в себя, нет, скалясь, изнуренно, робко. Я тоже улыбнулся, и у тебя вылетел теплый уже смешок.
«Когда с человеком истерика, он во всем отдает себе отчет, но остановиться не может. Извините, пожалуйста»
«Вам не за что извиняться»
Ты сжимала растопыренными пальцами кружку, почти окунув в нее нос, но было ясно, что пить ты не собираешься. Ты глядела поверх пара, как бы вспоминая что-то, и глаза то сощуривались, то стекленели.
«Я боялась этого. Но думала, что то, чего боишься, наверняка не произойдет»
«Бывает и так. Бывает и по-другому»
Пальцы, тонкие и красные, массировали кружку.
«Меня лет с восемнадцати преследовал вопрос «зачем». Как будто такая специальная птица летает за мной по пятам, садится на ветку над головой… Вроде ворона у По. А потом я встретила его, и птица больше не прилетала. Он пригласил меня к себе в аспирантуру. Сказал, что мне надо непременно остаться на кафедре, и мы будем вместе вести спецкурс… – вдруг ты чуть вскинулась, – Между нами ничего не было. Поэтому я боялась. Верила ему, но боялась. И все равно… И все равно…»
Ты распрямилась и покашляла, как бы призывая себя быть сдержаннее.
«Я заходила проститься. Послезавтра он возвращается в Канаду, он большую часть года проводит в Торонто, преподает…»
«Послушайте, неужели вы думаете, что там у него никого нет?»
«Там у него семья, я знаю, – сказала ты чуть ли не бодро, – Но это совсем другое…»
Ты в три глотка осушила кружку и протянула мне, выкинув руку, как дети выкидывают, говоря «на».
«Можно я посплю?» – спросила уже неповоротливым голосом, и лицо сразу осоловело.
«Спите», – сказал я.
И, как если б я произнес заклинание, тут же подогнула под себя ноги и из положения сидя медленно завалилась набок. Я разул тебя и накрыл пледом, но сначала взял за лодыжки и разогнул ноги, потому что спать клубком вредно. А чулки у тебя продраны на больших пальцах, но меня это не задело, даже как-то наоборот.
Я взял тебя за лодыжки и вдруг увидел танцкласс: Мила разминается, сидя на полу, тянет мысок, потом трет ступни в пуантах. Они словно окоченели двумя полумесяцами или скобками. Почему меня туда пустили? Мила гуляла со мной по воскресеньям, а в воскресенье, само собой, никаких занятий не было.
Помню, на пустыре: Мила привела меня туда, оставила у края, отбежала ближе к середине и исполнила несколько па.
Помню, как она прыгнула. Помню, как подол платья расплющился тарелкой, а под ним две тонкие ноги, и обожгли воздух белые короткие носочки. Эти носочки без опоры, навсегда зависшие, навсегда сверкнувшие, – вот, что было самым невероятным.
Она никогда не была замужем. В тридцать с чем-то вышла на пенсию и устроилась во Дворец пионеров. Потом вела ритмику в детском саду.
Милой ее звали дома, и представлялась она только так, и в крещении приняла имя Людмила, а по паспорту – Каридад, Милосердие. Наш отец назвал ее в честь своей матери. Он испанец, из тех детей, если ты понимаешь. Ему было уже тринадцать, так что испанский он не забыл, а по-русски говорил хоть и без ошибок, но с акцентом. Что не помешало ему стать отличным ученым и полжизни провести в геофизических экспедициях, как я теперь.
Кажется, ты проспишь до утра. Лишь бы никто не стал тебя разыскивать по мобильному… Это ведь я тебе рассказываю вовсе не потому, что пучок у тебя Милин, «вагановский». Ты правильно сделала, что уснула, а вот я не догадался. Мила говорила: когда тебе плохо, пой и танцуй. Она как-то обмолвилась, а может, открыла по секрету, что на уроке и на репетиции всегда напевает себе под нос.
Я встречался с девушкой – познакомились на вступительных в ФизТех. Я срезался, а она прошла. Мы переписывались, пока я был в армии, потом я вернулся, поступил в Горный, и целый год идиллия была полнейшая, пока однажды мы крупно не поссорились. Я первый раз всерьез приревновал и не без повода. Она отдалилась, избегала меня, а потом я узнал от кого-то, что она собирается замуж. Нашел ее, потребовал объяснений, и тут она заявляет, что никогда не любила меня, а просто испытывала сокурсника. И он выдержал испытание с честью – теперь ведет ее в ЗАГС. Какова выдержка у обоих?
А у меня ее не оказалось, выдержки, потому что я сразу лег и уснул. Ты поймаешь меня на слове: я ведь только что сказал, что не догадался заснуть, как ты, но в том-то и суть. Ты проспишь часов двенадцать, резко сядешь на тахте, откажешься от кофе, наскоро поблагодаришь меня, стараясь не пересечься взглядами, и уйдешь, и ни к чему тебе вспоминать, как ты тихо кричала свое «а». Я, правда, считаю, что ни к чему. Так все будет, потому что именно так и было, ты сама помнишь.
Ее звали Таня.
Я уснул совсем не так, как ты, в чем и суть. А там познакомился с одним парнем, своим ровесником, по имени Валя; он был художник, а туда, где мы оба находились, его поместили родители, потому что им не нравилось, как он пишет, им бы хотелось, чтобы он писал по-другому.
Меня выписали через два с половиной месяца, а Валя остался. Мы тут же встретились с Юрой, и Юра рассказала мне про свою бабушку. Все произошло почти одновременно: родители упрятали Вальку, Таня сказала, что никогда не любила меня, и Юрина бабушка, которая на двенадцать лет подарила Юре удочку и научила его рыбачить, она теперь уходила из дома и терялась, а потом перестала узнавать Юру.
Мне было ясно, что перекошена какая-то главная ось. И я вспомнил про тысячу журавликов японской девочки. Ты, небось, не знаешь, но любой советский человек, разбуди его среди ночи, расскажет историю японской девочки, которая была больна лучевой болезнью после Хиросимы, а есть такая легенда у японцев, что если сделаешь тысячу бумажных журавликов, исполнится твое самое заветное желание. Девочка так мечтала излечиться, что поверила в это… Слышала, да? Ну, вот. Мы понятия не имели, как эти журавлики делаются. Юра раздобыл Бог весть как, в Институте восточных языков, что ли, японский детский журнал, где было про оригами, и мы засели как проклятые.
Чуть позже к нам присоединилась Мила. Что нужно было исправить ей? Она говорила, что с тех пор как встретила Христа, ни в чем не нуждается, даже в балете. И действительно, дождалась своих тридцати, как обещала маме, и на следующий же день уволилась из Большого. Вот и спрашивается: что нужно было исправить ей? Или о себе она вообще не помышляла…
Можешь не верить, но я подумал, что если двое студентов Горного института и балерина будут днем и ночью делать из бумаги журавликов, возможно, мир тоже включится в эту игру, и тогда, если мы доберем до тысячи, что-нибудь произойдет – например, закроются все психушки в Союзе. Только делать надо непременно с молитвой, сказала Мила. Она принесла Евангелие, помню, без переплета, со старой орфографией. Я открыл и прочел: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу.
Бумаги не хватало, но в ход шла упаковка, газеты, старые учебники. Все равно мы сделали только четыреста двадцать шесть, поэтому Таня вернулась, но на время, и Вальку через месяц выпустили тоже на время, а Юрина бабушка жила еще год и за час до смерти вдруг узнала Юру, из всех родственников – его одного.
Что мы сделали с журавликами? Мила сказала, что их ни в коем случае нельзя сжигать. Мы с Юрой закопали их ночью в саду имени Баумана.
Вот ты просыпаешься и видишь меня сидящего на подоконнике, и сразу уводишь взгляд, и с вымученной улыбкой отказываешься от кофе и от чая. Щуплая, бледная, прямая, ты сама бумажный журавлик, и мне жаль, что я не сохранил одного из четырехсот двадцати шести, чтобы он ждал меня на окне, пока я в экспедиции.
Я вспоминаю про Ольгу, очень хочется позвонить, и я уже как-то нетерпеливо провожаю тебя до двери. Подаю тебе пальто, ты не глядя промахиваешься мимо рукавов, пока, наконец, я не беру твой локоть и не завожу руку в рукав.
Я набираю Ольге, но меня тянет посмотреть в «глазок», потому что я не слышал шагов по лестнице. Ты стоишь на лестничной площадке, плечами и пучком к 51-й квартире. Я жду, я знаю, что ты уйдешь: ни к чему тебе там стоять. И ты уходишь, когда я вдруг осознаю, что Ольга давно говорит мне что-то, говорит, говорит и вот-вот заплачет.
А того журавлика, единственного из четырехсот двадцати шести, я, вероятно, замел бы с хламом после очередного возвращения.
Ольга зачем-то плачет. Я смотрю в окно: ты стоишь у подъезда, на скамейке лежит Паша, и дворники-киргизы сгребли огромную копну листьев.
Москва, август 2012




