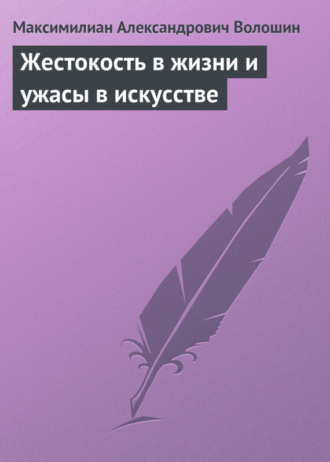
Максимилиан Волошин
Жестокость в жизни и ужасы в искусстве
Чтобы еще ярче выделить это отношение, возьмем эпизод совершенно тождественный у Толстого и Андреева. Одного из собеседников шальной снаряд убивает посреди разговора.
У Толстого это так:
«Молоденький офицерик подбежал с рукой к киверу к старшему:
– Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? – спросил он. – Картечь! – не отвечая крикнул старший офицер, смотревший через вал.
Вдруг что-то случилось: офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера. Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки».
У Леонида Андреева подобный же эпизод описывается так: «Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас продержаться только два часа, а там подойдет подкрепление…
– Вы боитесь? – спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх – и больше ничего.
– Вы боитесь? – повторил я ласково.
Губы его дергались, силясь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня – и только, а перед глазами моими, на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком красном, текущем, продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех».
Мелодраматизм и театральность художественных приемов Леонида Андреева, их нарочитый ужас, сгущенность и преувеличенность красок объясняются прежде всего тем, что Лев Толстой видел войну свои глазами, а Леонид Андреев знал ее лишь по рассказам и по отчета военных корреспондентов. Толстой ее пережил, Леонид Андреев ее только представлял себе. В этом разница. Одно – пережить ужас самом другое – быть посторонним свидетелем ужаса, переживаемого другими. Первое, если не убивает, то дает великую силу духу, второе же только растравляет и жалость и фантазию. Толстой относится к войне, разумеется, нисколько не менее отрицательно, чем Леонид Андреев, однако для описания ее он употребляет самые сдержанные и строго взвешенные холодные слова, в которых чувствуется осторожность художника и боязнь переступить грань искусства. Леонид же Андреев точно игра «в пытки», как те дети, с которых мы повели наши рассуждения: подбирает все самое страшное, что может себе выдумать о войне, и облекает в формы самые жестокие, какие только может придумать. «Леонид Андреев меня пугает, а мне не страшно», – формулировал сам Лев Толстой. Но то, что не было страшно Толстому, не будем забывать это, может быть страшно, и очень, тысячам и тысячам обыкновенных читателей Леонида Андреева, для которых его стиль и приемы кажутся художественными и убедительными.
Но возьмем Гаршина – писателя гораздо более чувствительное к жалости, чем Толстой, и еще менее уравновешенного, чем Леонид Андреев, но лично пережившего войну.
Его описание войны менее эпично, чем у Толстого. Все в нем трепещет ужасом. Раненый лежит брошенный четыре дня на поле сражения рядом с трупом им самим убитого турка. И муки от раны, и постепенное разложение соседнего трупа описаны с детальным реализмом, однако в этом повествовании нет и намека на те кошмарные ужасы, которые; рисует растленное жалостью воображение Леонида Андреева на расстоянии пяти тысяч верст от поля русско-японских битв.
Среди писем Гаршина, написанных с театра войны, есть интересные указания на психологию чувствительности.
Он пишет: «Скажу только, какое впечатление произвел на меня вид раненых, крови, трупов и прочих аксессуаров войны.
Я Никогда не ожидал, чтобы при моей нервности я до такой степени спокойно отнесся к вышесказанным предметам».
Затем следует протокольное описание обгорелого трупа одного турка, и он прибавляет:
«И, представьте, даже такое нехудожественное описание действует на меня самого более неприятно, более вывертывает душу, чем самый вид неизвестного правоверного.
То же и раненые. Неприятно слушать, читать об ужасных ранах, видеть их на картинах; но на самом деле впечатление значительно смягчается. А какие ужасные бывают раны! Я пересмотрел около 150 человек и видел страшно искалеченных людей. Особенно неприятны раны в лицо».







