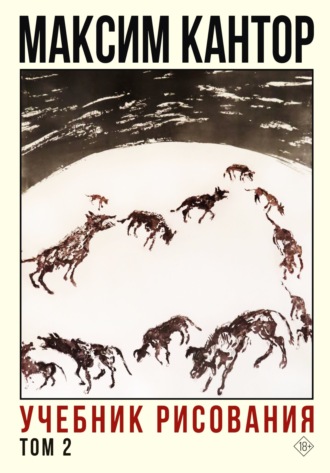
Максим Кантор
Учебник рисования. Том 2
Девушка давно уже плакала. Она лежала ничком и тяжело плакала, поднимала голову от подушки, вскрикивала и плакала опять. Павел обнимал ее, говорил, чтобы она успокоилась, но она плакала и плакала.
– Прогони меня, – твердила она, – прогони.
VIII
Стояла холодная тихая ночь, и ее плач слышен был во всем доме – сквозь халтурные стены хрущевской постройки. Успокойся, говорил Павел, но сам думал о другом. Что надо сделать, думал он, что выбрать? Терпеть все это, то, что в принципе нестерпимо, – или идти напролом и бросить то последнее, что здесь удерживает? Я не могу больше выносить это фальшивое бытие. Быть так – значит не быть вовсе. Если вся система ценностей, принятая в этом обществе, фальшива, если все институты, все правила – ложь, если все то, что они называют культурой, – вульгарная шутка, то для чего это нужно выносить? Если те, кого называют интеллигентами, – трусы и лакеи, если у власти – коррумпированные прохвосты, то так и следует сказать: они лакеи и прохвосты. Если министр культуры – мздоимец, а его заместитель – вор, то так и надо сказать и положить конец этому спектаклю. Если президент и его министры – жулье, то отчего же не сказать именно так? И плевать, что будет. Они думают, что правила этой игры нельзя нарушить – и думают так только оттого, что каждому игроку есть что терять: кому дом, кому семью, кому славу. И всегда найдется этот теплый уютный уголок, который хочется защитить и ради этого согласиться с тем, что с дома сорвало крышу. И мы ходим на приемы, жмем руки, шутим и жрем то, что нам дают. Глядишь, и жизнь пройдет, и не придется ничего менять, а там оно, может, и само устроится. Но мне нечего терять, и этого уютного уголка у меня нет. В моей теплой постели переночевало уже столько посторонних мужчин, что постель больше не греет. Так почему же ты медлишь?
Легко думать смелые мысли, когда та, которую любишь, лежит рядом. Девушка перестала плакать и уснула, и Павел уснул, согретый ее теплом. Утром девушка уходила от него, и Павел смотрел ей вслед, и в эту минуту ему не хотелось ничего иного, но только вернуть ее, прижать к себе, гладить худую ключицу. Она повернулась посмотреть на него, и свет не погашенного с ночи фонаря выхватил из утренней темноты ее прекрасное лицо. Я не отдам ее, думал Павел, я ни за что ее не отдам. Вся прочая жизнь – с министрами, президентами, авангардом и интеллигенцией – сделалась ничтожной и ничего не значащей. Что мне до них, думал он утром, глядя на стремительную походку девушки. Какая разница – авангард ли, не авангард! Что мне до них, если я держу в руках главное, самое главное, что только бывает. Вся эта суета вокруг нас – пусть бы и не было ее вовсе.
Однако жизнь вокруг них продолжала идти, и жизнь эта была уверена в том, что она значит многое.
IX
– Ты пойдешь со мной на день рождения к Маринке? – спрашивала Павла Лиза. Лиза привыкла к тому, что видит Павла редко, но следовало соблюдать приличия перед знакомыми.
– Я не пойду с тобой, – ответил Павел, – мне нужно быть в другом месте.
Лиза глядела с упреком – и ее глазами смотрела на Павла вся приличная жизнь, обиженные им будни. Эти будни глядели с досадой на распутного человека, который доставляет столько хлопот. Все равно ты никуда не денешься от нас, говорил этот взгляд, потому что мы имеем на тебя право и твоя жизнь принадлежит нам. Рано или поздно мы ее заберем, день за днем, а пока глядим на тебя с упреком. И Павел оглядывался по сторонам, но везде встречал тот же взгляд; так смотрел на него кривой тополь за окном, серый пиджак в шкафу, тарелка супа и газета с новостями. Вещи, люди, понятия – такие простые и уверенные в правоте – все теснее сжимают свой круг, и места для его собственной жизни не остается.
Простая жизнь, с неяркими эмоциями, с блеклыми страстями, жизнь скучная, но постоянная и надежная, обступает его со всех сторон и душит – уверенно и неумолимо. Как и все, что делается в размеренной и обыкновенной жизни, это происходило без излишней аффектации, просто благодаря незначительным ежедневным делам, но происходило неотвратимо. И Павел каждый день знал, что еще на один шаг обыкновенная жизнь продвинулась вперед, еще один день забрали от его, Павла, существа, еще что-то ему пришлось отдать для торжества простой и самодовольной жизни. Вот этот день, и потом день следующий, а за ними еще один – и обыкновенная жизнь, простая неяркая жизнь забирала их один за другим, и забирала без колебаний, но с чувством права и правоты. И, забирая их, обыкновенная жизнь смотрела на Павла с укоризной: неужели ты не понимаешь, что ты должен безропотно отдать все, для чего же ты цепляешься за свою особенность, для чего прячешь то, что тебе дорого, от нас – от неотвратимой силы вещей?
X
И девушка понимала это так же отчетливо, как Павел.
– Надо уехать, – говорила она, – ты не сможешь здесь. Не сможешь порвать. Мы должны уехать.
– Да, – говорил Павел, – мы должны уехать.
– Они не дадут жить. Они не разрешат.
– Куда же мы уедем, – говорил растеряно Павел, – в Париж?
– Безразлично. В Сибирь, на Урал. Мне все равно, куда ехать с тобой – в Париж или в Свердловск. Поедем в город Свердловск. Там холодно и пусто. Это очень далеко, и мы будем там одни.
И тема отъезда возвращалась в их разговор снова и снова. И вставал перед их глазами мерзлый русский город, где они будут жить на окраине, в пятиэтажном блочном доме хрущевских времен. Они будут гулять по холодным широким улицам с чахлыми тополями, и уральский ветер будет дуть им в спину. Они будут покупать серую колбасу в гастрономе напротив и заваривать чай в чайнике с отбитой ручкой. Они будут засыпать в неуютной комнате, окнами во двор, и спать до позднего утра, и никто никогда не отыщет их, чтобы упрекнуть в разврате, чтобы посмотреть больными праведными глазами на их греховную жизнь. Им разрешат жить вместе, так, как они живут, любить так, как они любят; никто не потребует с них отчета.
– Да, мы уедем, – говорили они друг другу, – куда угодно, в провинцию, в глухую Россию.
– Мы можем уехать в Покоево, там нас никто не потревожит, – говорил ей Павел, а сам думал о трагике в провинции и о томике Шекспира в провинциальной гостинице. Он рассказал ей о рязанской деревне Покоево, откуда пришла его бабка, о снежных вечерах, о синем снеге, о теплой лошадке по имени Ласик и о бабушке своей Татьяне Ивановне и ее крестьянской морали.
– Вот уж кто не принял бы тебя, – сказал Павел Юлии, – пожалуй, нам не стоит ехать в Покоево.
– Думаю, Татьяна Ивановна меня полюбила бы, – отвечала стриженая девушка, – она поняла бы, что я работница. Это ничего, что я городская красавица, – я со всем справлюсь.
– Вряд ли, – сказал Павел, – для таких людей все решается раз и навсегда. Ты не представляешь, до чего она нетерпима.
– Такая бабушка и должна быть у тебя. Она ограждает тебя от недостойного.
XI
Каждый раз, когда Юлия Мерцалова говорила Павлу, что она недостойна его, Павел успокаивался, и мутная, тяжелая ревность отступала. Это означало, что девушка понимает разницу меж Павлом и прочими мужчинами, такие слова звучали как заговор при болезни, как ворожба деревенских бабок над недужным. Это сделалось непременным лекарством от его ревности, и всякий раз, когда в разговоре возникало имя Леонида Голенищева или Владислава Тушинского, девушка спешила сказать слова, которые, казалось, заговаривали прошлое:
– Бедный мой. Как это недостойно тебя. Почему мы не встретились маленькими, когда ничего еще не случилось. Зачем я не пришла к тебе в пятнадцать лет? Как же получилось, что тебе больно от меня.
В такие минуты, подчиняясь обычному для себя желанию не согласиться с обстоятельствами, Павел отвечал, что не хочет другой жизни, не хочет другой любви, не хочет уступки принятой добродетели. Мы встретились вовремя, говорил он стриженой девушке. Я был глуп, пока был молод. У меня недостало бы сил идти наперекор всем. Мне невыносима корпоративная добродетель, говорил он. Я ненавижу ленивых праведников. То, как получилось у нас, единственно правильно, я не променяю этой жизни на их сонное существование. И, произнося эти слова, он сам верил, что его жизнь самая правильная. Так случается с человеком, который не замечает, где живет, и хвалит свое жилье, а потом он вдруг оглядывает свой дом, комнату с ободранными обоями и кривыми стульями, видит разорение и беспорядок и думает: зачем я так живу?
Юлия Мерцалова замечала эти перемены настроения. В такие минуты Павел отворачивался, прикрывал глаза. Девушка подходила к нему, трогала за плечо:
– Хочешь, прогони меня. Хочешь, пойду прочь?
– Обними меня, – отвечал Павел, – обними и скажи, что ничего другого не было.
– Прошу тебя, прогони меня.
Но он только сильнее прижимал ее к себе, сжимая руки все сильнее, словно от того, насколько крепко он обнимет ее, могло измениться что-то – прошлое ли, будущее ли.
– Прижмись ко мне. Теснее. Еще ближе.
24
Когда видишь человеческое лицо, видишь одновременно и общее выражение, и отдельные черты. Панофский считал, что каждая из частей лица принимает на себя ответственность за нечто свое: лоб – воплощение интеллектуальной жизни; от бровей до губ черты лица рассказывают о характере; то, что ниже, выражает опыт. Встречаются лица, в которых каждая черта говорит противоположное, тем не менее общее выражение лица существует. Как правило, искусство концентрирует внимание на общем.
Искусство в отличие от оптики обладает способностью избирательного зрения. Очки не помогают близорукому в избирательном анализе деталей: они приближают мир сразу – во всех подробностях. Сочетать несколько расплывчатое и зоркое зрение в жизни невозможно. Когда же речь идет об искусстве, вопросы звучат так: не сделать ли зрячего немного близоруким? нужно ли внимательное зрение или легкий туман не повредит? До какой детали доводить разрешающую способность кисти, когда рисуешь портрет: рисовать ли глаза у человека или ограничиться пятнами, а может быть, достаточно пятна вместо всего лица? Полная картина мира искусству не требуется – нужна редакция.
Художнику надо создать баланс между подробностями и общей интонацией холста. Всегда кажется, что лишняя деталь разрушит впечатление. Считается безусловно доказанным, что коль скоро целое важнее детали, деталями нужно жертвовать. Причем жертвовать деталью художник должен не потому, что он этой детали не видит, и не потому, что он ее не может воспроизвести, и не потому, что не хватает времени на подробный рассказ, – но потому, что есть нечто важнее ее. Это нечто определяется, как правило, через идеальные понятия: общее видение, цельная форма. Существует много примеров, когда художник жертвовал частью ради впечатления от целого: Роден отрубал руки у уже готовой статуи, Сезанн время от времени сводил формы к простой геометрии. Есть термин, широко используемый в живописи, – «обобщить». Обобщить – значит пожертвовать частным ради целого, пожертвовать материальным (ибо что есть деталь, как не торжество материального) ради идеального. Здесь существует противоречие, в котором художник должен отдавать себе отчет.
Живопись – субстанция материальная, производящая материальный продукт. Цельная форма и общее видение в живописи могут быть выражены лишь наглядно, а значит, остаться в качестве идеальных понятий не могут. Когда Сезанн говорит слова «общая форма», его восторженный слушатель Бернар может воображать невообразимый эйдос, но в действительности Сезанн имеет в виду нечто цилиндрообразное, что обозначает тело купальщицы. Поскольку художнику органически не дано нарисовать то, чего нет в природе (даже если он рисует только пятна, то следует признать, что и пятна в природе тоже существуют), то, изображая идеальную форму, он все-таки нарисует конкретный предмет. Толкуя о цилиндре, конусе, шаре (последователи относились к этим формам как к метафизическим указаниям), Сезанн имел в виду буквальный цилиндр и буквальный конус. Когда кубисты, а вслед за ними супрематисты заменили образ схемой – то (вольно или невольно) они изображали простые геометрические тела, ведомые всякому школьнику, – хотя собирались выразить метафизические основы бытия.
Проблема материального бытия – а картина принадлежит посюстороннему бытию – в том, что место одной детали обязательно займет деталь иная, и художник должен понять – какая именно, ради чего он поступился подробностями бытия. Противоречие заключается в том, что в живописи невозможно жертвовать материальным ради идеального: освободившееся место с неизбежностью займет другая материя. Сезанн испытывал отвращение к слащавым подробностям анатомии – но всю жизнь переживал, что, обобщая, не может закончить холстов: цилиндрообразные объекты, заменившие тела, его также не устраивали. Последователи усмотрели в этом лицемерие, они-то восхищались именно цилиндрообразными объектами. Сезанн же был искренним: он чувствовал страшную власть детали – оставшееся от нее пустое место кричит о материальности мира еще громче.
Глава 24
Управляемая демократия
I
Управлять страной – значит управлять людьми; мысль эта настолько банальна, что ее не принято развивать. Между тем ее стоит продолжить и сказать, что управлять людьми – значит управлять их образом жизни. Ergo: управлять страной – значит управлять образом жизни людей, населяющих эту страну, т. е. регулировать их пристрастия, вкусы, идеалы, а это совсем не просто.
Например, это непросто осуществить в стране, где все воруют и воровские обычаи сделались нормой; так же непросто регулировать пристрастия людей в обществе, где все врут и ложь стала привычкой; непросто управлять образом жизни в такой стране, где члены общества пребывают в колебании, что сделать завтра: отремонтировать квартиру – или эмигрировать. О каком образе жизни следует говорить среди воров? О каких пристрастиях говорить среди лжецов? Управлять субъектами какого общества прикажете – теми ли, что на всякий случай держат в столе билеты на самолет? Ложь, кража и бегство, сколь бы привычны они ни были, понятия расплывчатые, твердых очертаний не имеющие. Образу же присуща совершенная определенность форм. И правителю – что уж совершенно необходимо для управления образом жизни – требуется представить себе вышеупомянутый образ. В отсутствие же внятного образа – и управлять образом затруднительно.
Часто случается так, что способ управления соотносится с реальной жизнью, как старый костюм, утративший владельца и напяленный на чужое тело: пиджак трещит по швам, брюки надуваются пузырем. И становится крайне жалко прекрасное произведение портняжного искусства, использованное столь небрежно и неуважительно. Возникает законный вопрос: а так ли необходимо наполнение для отлично сшитого костюма? Ведь висят же костюмы в магазинах, и внутри у них пусто, и ничего – смотрятся неплохо. Так нужны ли вообще люди для того, чтобы система управления ими работала? Неблагодарный человеческий материал только портит отличную систему управления – и недоумевает портной: все скроено и сшито безупречно, а вот торчат из обшлагов какие-то дурацкие потные ладони, высовываются из штанин отвратительного вида ноги. Чей труд прикажете ценить выше – кропотливый ли труд дизайнера, создающего одежду по изысканным и разумным лекалам, или беззаботный труд природы, что наудачу сляпала человека? Политические магазины готового платья предлагают правителям соблазнительные образцы кройки и шитья, и часто, выбирая фасон, правитель приходит в отчаяние: да где же ему взять народ, заполняющий столь совершенный продукт? Как бы научить нелепое население равномерно заполнять своей бессмысленной массой рукава и штанины, как распределить бессмысленную протоплазму, чтобы жилет не надувался, а пиджак не топорщился? Не годится субъект для данного костюма, ну абсолютно не подходит; так, стало быть, работать с ним надо – и, пожалуй, проще изменить гражданина, носящего платье, нежели платье перешивать.
Проблема эта решалась двадцатым веком брутально – субъект подгонялся под готовое платье, и столь усердно подгонялся, что казалось: платье пришлось впору. Однако неуспех этого метода (т. е. обильные жертвы среди населения и – что иным показалось хуже – среди правящих классов) привел к концу столетия к парадоксальной ситуации. С одной стороны, от насильственной практики муштры и примерок пришлось отказаться и отнестись к народу снисходительно, а именно: посмотреть – а какой, собственно говоря, образ жизни ему соответствует, чем конкретно надлежит управлять и какой закон шить. С другой же стороны, народ уже приведен долгими примерками в такое состояние, что естественной и органичной работы с ним не получится: он, шельмец, пребывает в растерянном, подавленном состоянии. Спрашиваешь его: а есть ли у тебя, любезный, какой-никакой образ жизни? А он молчит и в носу ковыряет. И хочется сделать как лучше – но вот что именно сделать, не вполне ясно. Бурнопьющий российский президент выразил общее недоумение (свойственное всем правителям вообще) тем, что созвал однажды прогрессивную интеллигенцию на судьбоносный разговор, этакое ристалище умов, и возопил гласом велиим: а подайте мне в двадцать четыре часа, понимаешш, русскую национальную идею! А скажите мне, отцы, в чем состоит наша всемирно-историческая роль и задача? А ну-ка, обобщите-ка мне исторический опыт! А явите-ка мне образ нашего великого народа – а я узрю его и стану им управлять. И засуетились мамки с няньками, забурлило открытое общество, и тот с идеей пришел, и этот – тоже с идеей. Да вот незадача: не подходит ни одна в качестве общей (парадигмальной, как сказала бы Роза Кранц) цели. Православие, самодержавие, народность? Так ведь это когда было! Быльем поросло, прогрессом потоптано, цивилизацией в муку перемолото. Прогресс и цивилизация? Так ведь тоже всем не годится: у одних, которые управляют нефтяными концернами, эта цель, может, вопросов и не вызывает, а у тех, кто в Сибири валенки валяет, – у тех вызывает, да еще какие.
Соблазнительно было бы списать трудности российского президента на национальные русские особенности: страна слишком большая и бестолковая. Однако со схожей проблемой столкнулись решительно все правители просвещенного мира после устранения тоталитарных режимов. Очевидно было одно: некое неуловимое понятие (для простоты именуемое свободой) для граждан предпочтительнее, нежели фашизм и коммунизм; гражданам не вполне хочется революции и тирании; граждане желают, чтобы их оставили в покое – пребывать в привычном им состоянии. Непонятно только, в каком именно.
Двадцатый век ввел многих людей в соблазн, внушил многим людям несбыточные надежды и необоримый энтузиазм к достижению недостижимого, поссорил сословия и классы, создал иллюзии массового характера, причем совершенно противоречивые, – одним словом, сделал все для того, чтобы привычный образ жизни перестал существовать – и тем самым двадцатый век расформировал систему управления. Та благословенная либеральная система ценностей, что формировала законы и правила девятнадцатого века, однажды была взорвана и уничтожена, ее более не существовало. И, однако, именно к ней, несуществующей, апеллировали прекраснодушные умы в поисках гармонии. Умы же не столь прекраснодушные, но практические указывали первым на то, что именно либеральная система ценностей и привела к удручающей картине всеобщей бойни. Представляется довольно трудной задача управлять людьми, часть которых понимает свое благо одним образом, а иная – прямо противоположным. Многоукладность экономики – вещь для государства обременительная, но куда более обременительная вещь – многоукладность сознания. Одно не вытекает с необходимостью из другого: и крестьянин, и банкир могут понимать основы своего бытия – то есть то состояние, которое рассматривается ими как идеал, – одинаково. Например, они могут принимать семью, государство, законы как необходимый регулятор жизни, ведущий к счастью. Возможна, однако, ситуация, когда все заинтересованные стороны считают по-разному, и государству будет крайне непросто внедрить общую систему управления. И не насилием, отнюдь не насилием собирались регулировать идеалы современные правители. Уродливые формы диктатур минувшего века и возникали именно как следствие неуправляемости общества, несообразности человеческого материала с идеально сшитым костюмом. Диктатуры ушедшего века были пугающими, но недолговечными: можно подавлять пристрастия, но это не означает управления пристрастиями. Конечно, можно и оттяпать гражданину конечность, чтобы костюмчик ладно сидел, – так ведь он, подлец, того и гляди – помрет. Нет, нынче требовался иной подход: конечности не кромсать, а где надо – руку согнуть, ногу поджать, живот втянуть; а может быть, где-то и подол укоротить – но подогнать одно под другое.
II
Не успел еще век двадцать первый наступить, как всем стало ясно: грядет век практический. Основной задачей нового века, пришедшего на смену веку утопическому, является налаживание системы управления – рациональной и энергичной. Требуется предать забвению распри и выработать общее представление о благе и свободе. И перед властителями мира стоит труднейший вопрос: как согласовать интересы тех, кто тратит на бутылку вина за обедом больше, чем обычные люди расходуют в месяц на пропитание, с интересами этих обычных людей? Как заставить их поверить, что они суть единое целое? Как заставить Ефрема Балабоса и Александра Кузнецова понять наконец, что они – родственники? А если взять пример супруги г-на Балабоса – небезызвестной Лаванды Балабос, то как поместить ее опыт и взгляды рядом с опытами и взглядами Зои Тарасовны Татарниковой? То-то и оно, что непросто.
Сама Зоя Тарасовна, женщина наблюдательная, выразила эти противоречия следующим образом.
– Я, – говорила к случаю Зоя Тарасовна, ни к кому особо не обращаясь, но и не делая из своих слов секрета: пусть все слышат, я, когда была замужем за Тофиком, денег его понапрасну не транжирила. Конечно, и заработки тогда были поменьше, – в этом месте своей речи Зоя Тарасовна делала паузу и поджимала тонкие губы, – но, разумеется, кое-что позволить себе я могла. Работал он всегда как каторжный, не чета некоторым. Однако зачем же пускать на ветер трудовые деньги – что за поведение такое? Прежде всего, я считаю, детей надо устроить. А бриллианты ни к чему. Ну, поездить, мир посмотреть – это я понимаю. Это – да. Одеться пристойно женщине необходимо. Ну, одно кольцо, два – это не помешает. Но и меру надо знать. Полюбуйтесь на его нынешнюю супругу, на эту Беллу. Или на ее подругу посмотрите, на Лаванду Балабос. Верх неприличия, стыдно просто! У них бриллианты с яблоко величиной! А Тофик – он доверчивый. Говорила же я ему: вот уйду я, Тофик, и окрутит тебя такая шалава, что ахнешь! Вспомнишь меня, да поздно будет!
– И как, вспоминает? – интересовались слушатели.
– Ну, а как вы думаете? Ребенок общий, он в дочке души не чает. Каждый месяц подарки. Здесь-то, – жест в сторону безмолвного Татарникова, – разве чего дождешься? Ну и меня, – шевельнула щеками Зоя Тарасовна, – забыть непросто. Такие девочки, как Белла, хороши на день-другой. А настоящие чувства – о, это настоящие чувства! Знаете, как бывает: вот все у него хорошо, а остается один – и к телефону: где там моя Зоя?
– Звонит? – спрашивали любопытные.
– Звонит, – вздыхала Зоя Тарасовна, – но: трубку вешает. Голос послушает и трубку кладет.
– Думаете – он?
– А кто же еще? Кто?
И слушатели, подумав, соглашались, что, разумеется, это Тофик Левкоев звонит, и больше попросту некому быть.
– Но что же я сделать могу? – разводила руками Зоя Тарасовна. – Время не повернешь вспять. У нас совершенно разный образ жизни. И когда я вижу по телевизору эту расфуфыренную Беллу Левкоеву или Лаванду Балабос – знаете, я радуюсь, что я не на их месте!
– Неужели радуетесь?
– Да, представьте! Разве это выносимо? Пошлые приемы, неприятные чужие люди, безвкусные туалеты – как с этим жить?
– Некоторым нравится.
– И пусть! Нравятся бриллианты с яблоко величиной – пожалуйста! По-моему, это вульгарно, но если кому-то нравится – ради бога! Я свой вкус никому не навязываю, просто говорю – это не мое. Мне это чуждо. Разные мы люди, вот что я вам скажу!
Дело даже не в том, что сокровищ Зое Тарасовне никто не предлагал и что бриллианты с яблоко величиной действительно были не ее, но в том, что расстояние между классами (и, соответственно, уклады и образы жизни в обществе) менялось стремительно. И касалось это не только России – страны, где не так давно все были равно бедны, – но всего мира, где соотношение богатого с бедным претерпело за последние двадцать пять лет существенные изменения. Выражаясь коротко, разница между богатым и бедным, разница почти незаметная в шестидесятые годы (или весьма искусно декорированная), сделалась в конце двадцатого века существенной, в двадцать первом же – вопиющей.
III
Благословенное время Европы – а именно те тридцать лет, что впоследствии будут вспоминать как недолгий золотой век, случившийся внутри века уродств и бедствий, – завершилось в семидесятых. Вписанное меж двух катастроф (тотальной войны и тотальных режимов – и деколонизации и разрушения социализма соответственно), это время наследовало у диктатур идею равенства и одновременно пользовалось привилегиями колониализма. То было уникальное время, когда равенство и свобода как бы нехотя соседствовали с прогрессом и колониальной политикой. И казалось вполне естественным, что антидиктаторские настроения разогреваются явайским ромом, а свободолюбивые прения проходят в дыму кубинских сигар. Вы видите, кричало это время, мы отвергли диктатуры, но не отвергли равенства! Мы за прогресс, а то, что в связи с его развитием придется пожертвовать общим равенством, нас не касается. А то, что равенству в определенной мере присуща диктатура, – этого мы и знать не желаем! Мы за то, чтобы развитие капитализма стимулировало либеральные ценности. А сигары из колониальных провинций – ну, это так случайно случилось: завозят какие-то цветные, и ладно, нехай завозят. Ненормальность и эфемерность этого положения дел явилась следствием того странного союза, что был заключен во имя победы над фашизмом. Недолгий союз коммунистического идеала (в наиболее действенном своем воплощении, т. е. в армейском) с капиталистической практикой (в наиболее привлекательном варианте – либерально-консервативном) оказался возможен в весьма определенном действии – войне, но формулировал этот союз свое существо крайне неопределенно – словом «антифашизм». Поскольку никто не был в состоянии внятно сформулировать, что такое фашизм и противником чего конкретно данный союз выступает, то и порожденный союзом эффект был туманен. Победители рассорились и поделили мир, и та часть мира, что явилась на короткий срок воплощением равенства и процветания одновременно, приняла это странное состояние за свою историческую миссию. Европе вдруг померещилось, что она и впрямь воевала не за свою жизнь, дома, колонии, доходы, но за абстрактную свободу и от имени этой невнятной и несформулированной идеи свободы и обладает правом говорить. И – что еще более удивительно – всему остальному миру это померещилось также. Европа жирела и богатела, наливалась соками и кровью всего прочего мира, но делала это ради высоких идеалов, во имя правды и блага других. Словно бы провидением специально была назначена миссия такая западному человеку – пользоваться продуктами прочих народов, пить и есть всласть и являть собой пример нравственного ориентира. Мир принял это ненормальное, фальшивое состояние за расцвет либерализма, и когда дети рантье, зажравшаяся парижская номенклатурная шпана, кричали в шестьдесят восьмом: «Мы – немецкие евреи!» – мир видел в этом не безобразие сытых подонков, не надругательство над памятью сожженных, но движение либеральной мысли. И никто не сказал крикливой сытой сволочи, потерявшей голову от своего безнаказанного состояния: стыдитесь, юноша, вам по-прежнему мерещится, что вы на баррикадах, а вы – в торговом ряду. Напротив, мир благосклонно усмотрел в хулиганстве зерна свободы. И действительно, зерна уже проклевывались, надо было лишь подождать всходов, чтобы определить – что именно за продукт пророс. Приняв (как наследие разрушенных режимов) идеалистическую идеологию и сохранив (как наследство колониального развития) капитал, западная цивилизация на недолгий срок представила модель развития, поразительную для рассудка восточного наблюдателя: то было равномерное преумножение богатств для людей свободных и равных, цветение всех садов и открытие всех горизонтов. Данная модель (при всей своей безусловной порочности и бессовестности) была принята восточными наблюдателями – прежде всего восточной интеллигенцией – как идеал человеческого развития. Впоследствии, то есть через весьма краткий промежуток времени, когда условия для безнаказанного кривлянья сделались затруднительны, мир по-прежнему считал то балованное, расслабленное и порочное состояние идеалом, и – можно не сомневаться – так и останется в памяти веков.
Силою вещей, то есть простым ходом дней и событий, это благословенное время пришло к концу; обнаружилось, что вне западного мира есть иной мир и с ним требуется тоже как-то обходиться. Там тоже живут люди, конечно, не столь интересные и далеко не так внимательно отобранные мировым селекционером, но все-таки люди. Про них на некоторое время забыли, а это было неверно: вне разумного управления колонии расшалились, экспорт-импорт расшатался, иммиграция туземного населения испортила пейзажи метрополии, количество беженцев, пересекающих планету справа налево, сравнялось в цифрах с миграциями Средних веков – словом, что-то разладилось в мире, который уже было вздохнул в облегчении. Наличие другого субъекта всегда неудобно, особенно же неприятно наличие множества других, когда надо распределять такой лимитированный продукт, как свобода. Добро бы, западные политики собирались тиранить туземцев – но нет, нынче нужно их одаривать свободой, а это затруднительно. За эту самую свободу Марианна на баррикадах кричала и Ла-Манш бойцы штурмовали в день D, а теперь что же – у алжирца, или афганца, или конголезца ее будет столько же? И получается, достанется она им за меньшую плату? Поскольку века унизительной жизни конголезца в расчет не берутся (обсуждаться может лишь осознанное стремление к демократии), то и выходит, что свободу конголезец обретет без усилий. Не в том дело даже, что жалко свободы для других, но подойдет ли всем один и тот же покрой законов, власти и управления? Поскольку очевидно, что все в один костюм просто не поместятся – резиновый он, что ли? – требуется готовить для других нечто особенное. И, надо сказать, дизайнеры сегодня изобретают удивительные модели – налезут на любой горб, так спрямят, хоть на конкурс красоты посылай. Разумеется, материал для туземного костюма берут подешевле, практичный и немаркий – ребятам все-таки надо работать. Стали рядить туземцев в новое платье – и всполошились: как-то само устроилось, что для малых сих закон сшит на особый лад, и это ведет к отмене идеи равенства, общих идеалов, прогресса, сочетающегося с либерализмом.







