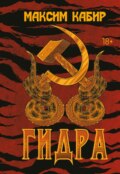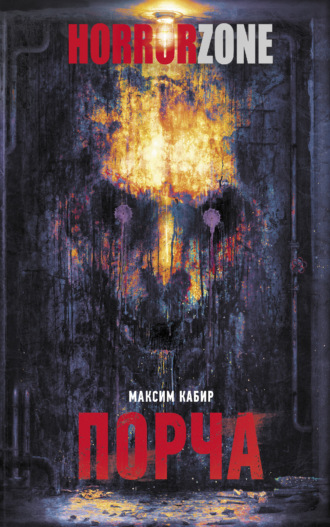
Максим Кабир
Порча
Тамара (1)
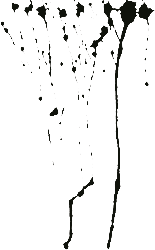
В ночь на двадцать восьмое августа у шестидесятилетней Тамары Яшиной из груди пошло молоко. Спросонку она испугалась, что кровь. Мало ли, рак. Ее мать умерла от рака.
Она стянула сорочку и обнаружила белесую влагу, струящуюся по ребрам. На цыпочках, чтобы не разбудить племянницу, выскочила в ванную, над раковиной помассировала грудь. Привычная дряблость сменилась забытой полнотой, приятной тяжестью. Ареолы покрыли капли молозива. Сердце норовило выпрыгнуть через горло. Тамара надавила сильнее, и жирное, как сливки, молочко потекло вниз, образуя на животе четкий рисунок.
Лицо со впадиной пупка вместо рта.
Она, конечно, ошиблась, обозвав Лицо «нечестивым». Начиталась макулатуры, наслушалась попов. Вот и ляпнула, что взбрело в пустую башку, а Игнатьич рассвистелся. Да и страшным оно казалось поначалу. Если от Господа, то почему под землей, почему из канализационной воды, а не из родниковой?
Потому, старая ты кошелка, что пути Господни неисповедимы. Из сора, из плевел явится святость, как чистейшее молоко из старушечьего вымени.
Белое, радостное, приливало, будоража эмоции, давно высеянные из памяти.
Снова спустившись к Лицу – она не знала зачем – Тамара увидела совсем иное.
Мудрость. Доброту. Всепрощение.
Хотелось свернуться клубочком, и спать на холодном полу, и смаковать яркие сны.
Но нужна ли какая-то там вахтерша Богу? Не противно ли ему ее присутствие?
Оказалось, не противно.
Копия Лица двигалась по ее морщинистому животу – потоки молока имитировали движение. Лицо нашло в зеркале ее горящие глаза и позвало.
Тамара наспех оделась. Племянница, допоздна игравшая в телефоне, крепко спала. Напихав под лифчик салфеток, Тамара бежала ночными улицами, и луна напоминала сочащийся молоком сосок.
Млечные соки омывали холм и школу. Трава из зеленой превратилась в белую, окна мерцали, как серебряные пластины.
Тамара вынула из кармана огромную связку ключей.
Грудь была теплой, словно пара угревшихся за пазухой кошек.
Учителя и школьники, когда замечали вахтершу, называли просто: баба Тамара. Реже – тетя Тамара. По имени-отчеству обращался только Костров, и ее душа таяла. Даже когда отчитывал. Племянница Лиля говорила: «Теть-Том», почти «Тетом», одним выдохом.
Но был на свете человек, который давно-давно звал ее Звездочкой. Так нежно, что можно умереть от счастья.
В Горшине никто бы не догадался: невзрачная баба Тамара когда-то сводила мужчин с ума. По крайней мере одного, самого красивого. Она тоже была красивой: худенькой, дерзкой. Звездочка с острыми лучами.
Она жила в деревне под Самарой. Гришу ее родители на дух не переносили. Выпивоха, бабник, картежник. Что они смыслили! В Гришиных объятиях Тамара плавилась восковым столбиком. В его глазах была королевой. Солома жалила голую спину – она не чувствовала ничего, кроме мужских рук, губ, мужского естества.
Грише доверяла беззаветно. Сразу согласилась поехать с ним в город, пойти к магазину ночью. Плевое дельце – она смотрит, чтоб дружинники не нагрянули, Гриша вскрывает кассу. Пока деньги отлеживались под ее матрасом, как Гриша учил, экспроприировали самогонщицу.
Гриша привез аметистовые бусы. Давал ей вино изо рта в рот. Она мечтала о детях.
Караулила во дворе дачи – даже не знала чьей. Достаточно Гришиных слов: «Зажиточные, в Пицунде сейчас отдыхают».
Звездочка улыбалась, накручивала на палец локон. В доме вскрикнули коротко – женский голос. Потом заплакал ребенок. Потом все утихло, и Гриша вышел на крыльцо, пьяно пошатываясь, утирая пот. С зажатого в кулаке сапожного шила капала кровь.
– Худо, – промолвил он, – ой, худо, Звездочка.
В газетах написали, он зарезал двоих. Хозяйку и трехлетнего мальчонку. Его арестовали по горячим следам. Про сообщницу не прознали. Гришу поставили к стенке.
Тамаре снился расстрел. Снились захлебывающиеся кровью жертвы.
Она покинула село и проделала долгий путь, чтобы забыть случившееся.
За страшный грех Бог наложил печати на ее чрево, и племянница – точнее, внучатая племянница – была единственной отрадой пожилой женщины.
А сегодня Бог сказал ей: «Прощена».
Пустил молоко.
Лунное сияние проникало в окна, лакировало школьный паркет. Кишка предбанника… засов… двенадцать ступенек и выключатель.
В подвале пахло, как в церкви.
Бог смотрел со стены.
Как же она могла, как? Огульно… на святое…
– Я пришла, Отче.
Тамара читала где-то: образ Девы Марии проявился на скале в Мексике. Паломники молились чуду.
Но фреска под школой не желала огласки… пока.
Лицо улыбалось Тамаре, и в нем угадывались черты Гриши. Хотя оно не было Гришиным.
Просто Бог – это любовь.
Тамара стащила кофту и лифчик. Грудь увеличилась на два размера – до той полноты, которую баюкал Гриша в ласковых ладонях. Отечная, блестящая, в переплетении голубых вен. Тамара ощупала себя и обнаружила комки под кожей. Подушечками пальцев протряхнула уплотнения.
Грудь болела. Фонтанировала молоком.
– Покорми меня, Звездочка, – прошелестел голос где-то за переносицей.
Меж нарисованных губ Лица зияла впадина, дефект, дырочка в бетоне. Была ли она вчера? Не важно.
Омываемая любовью высшего существа, Тамара подошла вплотную к стене и аккуратно всунула сосок в отверстие. Глаза ее при этом смотрели в глаза Бога.
Душа воспарила. Лицо принялось сосать.
Марина (3)
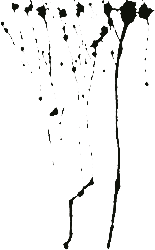
Расправившись со шторами, Марина долго глотала минералку из бутыли. Теплый ветер дул в распахнутые окна, шевелил тюль. Колени подгибались от усталости, но настроение было превосходным. Подвиг Геракла зачтен. Конюшни расчищены.
Кабинет – ее личный кабинет! – благоухал полиролем и освежителем. Запах ремонта практически выветрился. Завхоз приволокла три банки голубой краски. Остальное Марина купила за свои кровные. Сама орудовала валиком и кистью, сама покрывала лаком мебель. Идущие мимо школы дети могли видеть взгромоздившуюся на подоконник девушку, в процессе работы подпевающую Робби Уильямсу.
За седьмым классом числилось двадцать шесть стульев, тринадцать парт, учительский стол, доска и допотопный, частично отреставрированный по урокам из ютуба, шкаф. Макулатуру, набивавшую ящики, помогли выносить пригнанные Костровым одиннадцатиклассники. Книги по марксизму-ленинизму, собрание сочинений Иосифа Сталина в тринадцати томах, пятнистые слипшиеся методички (ничего не выбрасывать! – хлопотала завхоз).
Из бывшего кабинета Ахметовой переселились классики. Шолохов, Толстой, Маяковский. Их портреты заняли место над дверью.
Мелом Марина написала на доске: «Крамер – ты лучшая!» Пририсовала сердечко. Снаружи раздались шаги – Марина быстро вытерла тряпкой самовосхваление.
В кабинет вошла блондинка лет тридцати пяти. Раньше они не встречались.
– Тук-тук-тук. Здесь снимают передачу «Квартирный вопрос»?
– Уже сняли. Бюджетный выпуск.
Марина отряхнула ладони и пожала протянутую руку.
Блондинка присвистнула, оглядываясь:
– Да ты – волшебница.
– Только учусь, – польщенно ответила Марина.
– Я, как узнала, куда тебя квартировали, Кострова чуть не прибила.
– Он тут ни при чем.
– Уж поверь мне, он везде при чем. Я тринадцать лет с ним живу.
– О, так вы…
– Прошу, не надо «выкать». Кострова. Просто Люба.
– Марина.
У директора был отменный вкус на женщин. Библиотекарь обладала восхитительными зелеными глазами и гладкой кожей – Марина, оббегавшая десяток дерматологов, позавидовала.
– Как тебе у нас?
– Хорошо. Тихо, спокойно.
– Это поправимо. Детей меньше, чем в городских школах, сто семьдесят штук, но зато таких штук, что мало не будет. – Люба потрогала ткань штор. – Красивые. За свой счет брала?
– Да они дешевые.
– Малых потряси, пусть возмещают. Не затоскуешь в Горшине-то?
– Я из Судогды.
Библиотекарь изумилась:
– Это где?
– Владимирская область.
– Ясно. Привыкшая, значит, к тмутараканям. Кто у тебя на родине остался?
– Мама, дедушка с бабушкой.
– Жениха нет?
– Не-а.
Марина отмахнулась от образа того, чье имя нельзя называть.
– Плохо. У нас дефицит женихов. Или пьяницы, или лентяи. Был один, но я его… – Люба показала безымянный палец с кольцом.
«Неужели, – подумала Марина, – предупреждает, мол, мое, не трогай?»
Так она и не претендовала.
– Я теперь классный руководитель у вашей дочери.
– У чьей дочери? – шутливо насупилась Люба.
– У твоей то есть.
– Так-то. Да, у Насти. Она про тебя расспрашивает папу. Ты ей понравишься. Ты – модная.
– Модная, – прыснула Марина, облаченная – ремонт же! – в рваные джинсы и вылинявшую рубаху.
– Марина… как отчество?
– Фаликовна.
– Ой-е. – Люба прикрыла глаза пятерней.
– Что такое?
– Кто ж с экзотическими отчествами в педагоги идет?
– Намучаюсь? – улыбнулась Люба.
– Этим зубастикам только дай за что-нибудь уцепиться. Первое, что услышишь: «Как-как? Шариковна?» Так и прилипнет. Не реши, что каркаю…
Марине, свыкшейся с крестом отчества, было не обидно, а смешно.
– Ну я еще и Крамер. Может, они фамилию предпочтут исковеркать.
– А что, – прищурилась Люба, – может быть.
– Костровым легко рассуждать на такие темы. К Костровым не придерешься.
– А к Окуньковым?
– Это кто?
– Это я. Девичья фамилия. С ней я в библиотеку пришла и до сих пор хожу Окунем. Раньше думала, вот выпустится класс, новенькие про Окуня не узнают. Ага. Мне кажется, им в школе сразу говорят: «Эй, парень! Кострова-то – Окунь».
Марина смеялась, слушая слезливую тираду.
– А у других клички есть?
– Записывай. Костров – Борода. Кузнецова – понятно – Кузя. Каракуц – Каракурт. Англичанка, Александра Михайловна Аполлонова – уж до чего красиво и звучно, в честь покровителя искусств. А ее Половником дразнят.
– И ничего нельзя поделать?
– Пиши жалобы в районо.
Они болтали полчаса, оглашая смехом пустой этаж. Покосившись на часы, Люба встрепенулась:
– Я совсем забыла, зачем к тебе пришла. Идем!
– Куда?
– Как куда? Получать учебники и пособия.
Костров (3)
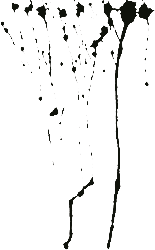
Спросонья никак не удавалось сообразить, что поменялось в комнате. Костров моргал и перетаптывался на месте. Мочевой пузырь, поднявший из постели посреди ночи, продолжал сигналить.
Директор помассировал веки.
Глаза привыкали к полумраку. Торчащий за окном фонарь нанес на предметы золотистое напыление.
Что-то не так.
Костров пошарил рукой по щекам, окончательно просыпаясь.
Осознание шибануло в солнечное сплетение – словно многотонный шар на стреле самоходного крана ударил по демонтируемому зданию. Вечером они с Настей видели такую штуковину в выпуске «Ну, погоди!».
Мебель увеличилась в размерах. Спинка стула теперь доходила до его макушки, а столешница упиралась в подбородок. Постель, только что покинутая, взмыла на уровень двухэтажной кровати. Кровать с двумя ярусами была у Насти – Люба возмущалась, зачем она дочери, но Настя любила спать то внизу, то вверху, под настроение, а Костров продолжал мечтать о втором ребенке.
В боку закололо.
Глаз фонаря таращился через стекло.
Костров попятился – что-то двинулось над головой. Гладильная доска. Он прошел под ней, как под аркой. В мгновение мебель вымахала еще сильнее. Край простыни, свисающий с кровати, напоминал белое знамя. Чтобы вскарабкаться на стул, потребовалась бы дополнительная табуретка. Столешница парила, подпираемая толстенными колоннами ножек.
Абсурд происходящего не поддавался анализу. Липкий пот выступил на спине.
Выросла не только мебель. Комната, на чью тесноту постоянно жаловались Костровы, приобрела масштабы бального зала в каком-нибудь дворце. Потолок едва угадывался. В вышине мерцала искусственным хрусталем люстра. Окна с рамами расширились и удлинились – сам Тиль вышел бы через форточку, не пригибаясь… если бы сумел забраться на Джомолунгму подоконника.
Босые пятки тонули в ворсе ковра.
«Где я?»
Ответом был скрип огромных пружин. Там, в поднебесье, великанша устраивалась поудобнее на своем великанском ложе.
Люба…
Пяти- или шестиметровая…
Вот сейчас из-за края кровати выползет луна ее головы и гигантский рот спросит, почему муж не спит.
Но пружины утихомирились.
А комната подросла.
Или… или это он уменьшился… как в старой американской комедии…
Оглянувшись, Костров увидел, что пространство под кроватью – щель между полом и бордовой драпировкой днища – увеличилось до размеров подземного гаража. Серые холмы спрессованной пыли вырисовывались в темноте. Тускло поблескивала чайная ложка – килограммы латуни – вероятно, Настя когда-то уронила ее под кровать.
При мысли о дочери дыхание перехватило.
Мозг предоставил сюрреалистическую картинку: Настя поднимает отца в воздух и целует в живот гигантскими губами.
Стены ходили ходуном.
Округлое, коричневое, величиной с автомобиль, наехало сбоку.
Таракан!
Присмотревшись, Костров понял, что это тапка, и она не представляет угрозы.
В отличие от шебуршащего на кухне кота. Хруст. Матрос ел сухой корм, перемалывал зубами катышки со вкусом кролика.
Костров закружился юлой, и комната закружилась: кресла, стулья, шкаф…
Мир резко зафиксировался.
Шкаф отвесной скалой вздымался в небо. Обелиск. Небоскреб.
Плита двери медленно отодвигалась. Барханы пыли шевелились, разлезаясь на клочья. Великанша засопела под километром одеяла.
Шкаф распахнулся. Сшить такую одежду могли разве что бездельники, стремящиеся попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Вешалки позвякивали: сталь громыхала.
В гардеробе очертилось Лицо.
Нечестивый Лик выплыл навстречу, и задравший голову Костров закричал. Горячий поток хлынул по ляжкам.
Лик отворил пасть.
– Уммм… – Костров смял наволочку в кулаке. Приоткрыл веки. Слюна стекала из уголка рта на подушку. Он утер губы, сел, щурясь от яркого солнца.
Комната вернулась к изначальным размерам. Компактная, тесная, родная.
На кухне Люба переговаривалась с дочерью. Ему позволили поспать подольше. Насладиться кошмаром, необычайно ярким и плотным.
«Хорошо хоть не уписался», – подумал Костров, ощупывая пах.
Расслабляясь постепенно, потянулся, захрустев позвоночником. Тапочки были как раз впору. Шкаф предложил выглаженную рубашку.
Перед тем как присоединиться к семье, Костров взял вешалку, встал на четвереньки и поводил ею под кроватью.
Крючок вытащил наружу комочки пыли и чайную ложку.
Курлык
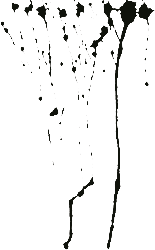
Ваню Курловича дразнили Курлыком. Он настолько привык, что не только откликался на прозвище, но и к самому себе – мысленно – обращался именно так.
«Жопа, Курлык. Спасайся, Курлык».
Он перешел в девятый класс, но выглядел на пару лет младше. Невысокий, субтильный, с неразвитой мускулатурой. Ниже любой девчонки-ровесницы. Рост вкупе с легким косоглазием делали его объектом насмешек. Словно он таскал на спине деревянную табличку: «Пни меня», и ровесники исполняли просьбу.
Математичка, Лариса Сергеевна, как-то сказала завучу: «Бедный мальчик такой слабый и рохлый из-за мамаши, дряни эдакой. Бухала во время беременности, прикинь?»
Лариса Сергеевна не знала, что он прячется под партой и все слышит.
Взрослые жалели Курлыка, но он им не доверял. Помнил тетю Риту, парикмахершу. Она тоже вздыхала сердобольно, угощала печеньем. А когда из куртки дочери пропали деньги, кричала громче остальных: «Это точно дело рук Курловича! Весь в мать, алкоголичку! Его надо на учет ставить в детскую комнату!»
Что за детская комната, Курлык не понял. За свою жизнь он крал лишь дважды: сникерс в «Дикси» – очень хотелось кушать – и крутую пожарную машину у Нестора Руденко. Правда, машину он вернул: совесть грызла.
Если бы Курлык отметил на карте места, где его задирали или били, Горшин целиком исчез бы под крестиками.
У церкви на Пасху – расквасили бровь, бросили в лужу куличи.
На Колхозной – выбили зуб.
У кинотеатра – снова зуб, сняли штаны.
На Почтовой – отобрали мелочь, зажигалку «Зиппо».
Опасаясь за дедушкины нервы, он говорил, что упал.
– Ага, упал! – Дед проспиртованной ватой тер его грязные щеки. – Прямо в зеленку.
– Мы играли…
Дедушка грозил кулаком куда-то в окно. Клялся отыскать хулиганов. Но дедушку самого задирали дети. «Пьяница, пьяница, за бутылкой тянется!» Подбросили собачье дерьмо в саквояж. Сфотографировали спящим в подсобке и фотку повесили на доске почета.
Курлык любил деда. Тот, хоть и пил, не становился агрессивным, как мама. Наоборот, от водки делался ласковым, готовил вкусности, болтал с внуком о пустяках. Трезвый же был угрюмым и ворчливым.
Но лучше уж с угрюмым дедом жить, чем с мамой, которая или дрыхнет, или кричит и бьет бутылки.
Так он считал до вчерашнего вечера…
Курлык шмыгнул носом. Таясь в кустах, он наблюдал за двумя мальчиками, сидящими на лавке возле стелы. Тень каменной таблички защищала их от полуденного солнца. Табличка сообщала, что здесь в тысяча восемьсот двенадцатом проходил, отступая после Бородинского сражения, арьергард русской армии во главе с генералом Милорадовичем.
Табличка умалчивала о том, что здесь же, чуть позже, Ваня Курлович улепетывал от Рязана.
Бровь, куличи, «Зиппо» – подарок отца из Москвы – это все Рязан.
Курлык не считал себя умным парнем, но смекал: Рязан при своем весе и росте мог найти противника посолиднее. «Бить Курлыка – как девочку бить», – думал Курлык.
Рязан теперь учился в соседнем городе, но обитал-то по-прежнему через улицу.
Жизнь учила не обольщаться.
Обрадовался Ваня, что в школе не встретит Рязана – тут же встретил на остановке. Отделался легкой оплеухой. Может, Рязан взрослел…
Мальчики на скамейке затеяли жаркий спор.
Высокий, светловолосый – Паша Самотин, сын Ларисы Сергеевны. Вихрастый и смуглый – Нестор Руденко. Руд ездил на море летом, а Курлык море видел разве что в кино.
Мальчики были его друзьями. Не важно, осознавали ли они это, хотели ли.
Они ни разу не унизили Курлыка. Не били. И, главное, они не жалели его в открытую, как какого-то калеку. Подтрунивали, но так, что обидно не было, ведь они и друг над другом подтрунивали.
Позапрошлой зимой Паша пригласил Курлыка в гости – с ночевкой, – и это была замечательная ночь! Они играли в стрелялки, листали комиксы, пили колу, бесились. Паша с Рудом – старше его на год! – отнеслись к нему как к равному.
В определенный момент Курлык ускользнул на кухню – принять лекарства. От газировки и шоколадок скрутило живот. Желудок был проблемой Курлыка. Одной из десятков проблем.
Он отвинтил крышку пластмассовой баночки, рассчитал дозу, высыпал белые кристаллы в стакан. Залил теплой водой, перемешал и выпил залпом раствор. Горечь не пугала. Горечь – вкус четырнадцати лет его существования.
– Это героин? – спросили из коридора.
Курлык вздрогнул.
Парни подглядывали. Возможно, опасались, что он сворует что-нибудь.
– Какой героин? – хмыкнул Руд. – Героин не пьют, его по вене пускают.
– Ну кокаин, – сказал Паша.
– Кокаин нюхают.
– Не, я кино смотрел. Мафиози кокс в десны втирали.
Курлык прервал дискуссию, откашлявшись.
– Это не наркотики, пацаны. Это соль специальная.
– Для чего?
– Я… ну… – Курлык покраснел.
– Чего яйца мнешь? – подбодрил Руд.
– От запоров.
Он ждал взрыв безудержного хохота. Чего он не ждал, так это слов Паши:
– Дашь попробовать?
И пацаны пробовали раствор, плюясь и ругаясь.
Даже сейчас, после случившегося вечером, Курлык улыбнулся.
Им можно рассказать. Не маме, не учителям, а им.
– Привет, мужики.
– О, Добби! – Руд свел к переносице зрачки. Паша пихнул его локтем.
– Кончай. Здорово, мужик.
Хлопки ладоней действовали как успокоительное.
– Ты чего зеленый такой? Соль закончилась?
– Да нет. – Он нащупал в кармане баночку. Уходя из дому ночью, взял спальник и средство от запоров.
– Вот пусть он скажет! – щелкнул пальцами Паша. – Он – эксперт по части телочек. Ева Грин или Кейт Бекинсейл? Кому бы ты вдул?
– Я… я их не знаю.
– Вот блин.
– Мужик, – посерьезнел Паша, – реально, ты в порядке?
– Нет, – покачал головой Курлык. В горле защипало.
– Эй. – Руд подвинулся, освобождая место для третьего. – Рассказывай.
Курлык посмотрел на друзей.
И рассказал.
– Давай-давай, поднажми!
Курлык засопел. Если дед оборачивался в узком коридоре, он кое-как выпрямлялся и стирал с физиономии мученическую мину. Но без надзора раскорячивался и высовывал наружу язык. Мешки весили тонну.
– Что здесь, деда?
– Книги из кабинета новенькой училки. Я Нинке грю: выбросить их к чертям. Кто их читать станет? Крысы? А она: нет, казенное имущество! Сволоки вниз!
Нинка – это завхоз школьный.
Под тяжестью ноши Курлыка занесло на повороте.
– А тут крысы есть? – спросил он с деланым безразличием.
– Был залетный пацюк. Я вживую не видел, токмо помет. Говно – по-нашенски. Зимой травил…
Дед отворил желтую дверь и спустился по лестнице. Через полминуты зажегся свет.
Курлыку не шибко нравился подвал трудовика, где как-то на уроке Рязан и Желудь сунули его пальцы в слесарные тиски. Но подвал под подвалом не понравился совсем. Особенно трубы, прикидывающиеся рептилиями. И что-то распыленное в темноте. Запах… церкви?
«Как бункер в компьютерном шутере», – подумал мальчик.
– Кидай их вон, на кучу.
Курлык сгрузил мешки у облезлого шкафа.
Дед стоял, руки в карманы. Подняв голову, Курлык увидел, что дед смотрит на него. Пристально смотрит – и лицо у деда желтое, будто та железная дверь, а глаза – холодные, будто цементный пол.
– Чего? – осторожно спросил Курлык.
– Вань. – Дед странно сморщился, оттопырил губы, гримасничая. – Вань, ты слышал про пионеров-героев?
– Слышал.
Во мраке заухало.
– Деда, может, пойдем?
Старик проигнорировал здравое предложение.
– Дверь прикрой, – сказал он. – Покажу кой-чего.
Взбираясь по ступенькам, Курлык представлял волосатых пауков и жирных слизней. Тяжелая створка заскрежетала петлями. Грохнула о дверной короб. Курлык оглянулся. Дед исчез.
– Ты где?
– Тута, – раздалось из недр подвала. Посетила шальная мысль: это не дедушка говорит.
«Ну да. Пауки это тебя заманивают в ловушку, дурачок».
Курлык пошел на голос. Дед стоял у стены, спиной к мальчику. Курлык прикинул, что вверху, над ними, туалеты для девочек на первом и втором этажах западного крыла.
– Пионеры – герои, – сказал дед, – совершили подвиг. Умерли, значится, за Родину. Ты бы за Родину умер, Вань?
– Н-наверное…
– Этого не надо бояться. Это не простая смерть, где подох и сгнил. Это сразу ты оживаешь. Как Христос. А что оно больно сперва – так из той боли и получается победа.
Дед отошел в сторону. В опущенной руке он держал аккумуляторный гвоздезабиватель. Выпив, дед позволял внуку брать желтую штуковину – Курлык воображал, что уничтожает полчища некроморфов.
– Ты поймешь, – ласково сказал дед.
На стене расплескалось Лицо. Рисунок из темных прожилок, из пятен влаги.
Курлык съежился. Взор черных глаз прожигал насквозь. Хотелось перестать дышать – мальчик надул щеки. Нечто подобное он ощущал на флюорографии: боязнь облучиться, скукожиться под воздействием рентгеновских лучей, заболеть раком.
Мозолистая ладонь легла на плечо. Дед очутился позади. Массировал тонкие косточки внука.
– Родину нужно спасать, Вань. Как в сорок первом. Родина погибнет без нас.
Кожа Курлыка засвербела под короткими волосами – сильнее, чем тогда, когда он подхватил педикулез и заразил весь класс.
Что-то коснулось шеи. Прошло по скуле до уха.
Нейлер с полной обоймой гвоздей.
Страх шевельнулся где-то на задворках сознания. Его нейтрализовала мысль, гораздо более ясная: «Стать героем. Хоть раз – стать героем».
– Ты понимаешь, – прошептал дед.
Клювик гвоздезабивателя поддел мочку. Ткнулся в ушную раковину, в забитый серой канал.
Палец деда дрожал на клавише. Стальной боек вколотит стержень в мозг. И они победят.
Об этом нахлынувшем чувстве Курлык не расскажет друзьям. Как и о том, что из дыры в бетоне, из отверстия на месте рта, текла жидкость… будто слюна.
Разрывая оковы, дед толкнул Курлыка – не вперед, а вбок, к мешкам и партам.
– Не подходишь! – застонал старик разочарованно. Зашатался, выронил нейлер. – Ты не нравишься ему!
Курлык уж мчался к лестнице.
– Курлович! – гаркнула в вестибюле уборщица. – Я пол мыла!
– П-простите…
– Ох, блин. – Руд взъерошил челку. – Съехал-таки Игнатьич с катушек. Добухался.
– Руд, – упрекнул Паша.
– А как это назвать еще? Внуку пистолет приставить к уху.
– Вань, и что ты дальше сделал?
– Ничего. В сарае заночевал. Утром домой зашел – дед макароны сварил по-флотски. Как будто ничего не было.
– Ни фига себе, ничего не было, – возмутился Руд.
– Он бы выстрелил? Как думаешь?
– Не знаю…
– А чего ты к взрослым не пошел? К Кострову?
– Чтобы деда в психушку забрали? – Курлык печально улыбнулся. – Я с матерью жить не собираюсь. И в детдоме тоже.
– Но если он опасный…
– Лучше уж так.
– Мужик, – произнес Руд, – я не врубился, что там за рисунок на стене?
– Рисунок. – Курлык пожал плечами, надеясь, что парни не прочтут в его глазах истинные эмоции. – Рыло.
…Дед нахохлился за кухонным столом. Изучал свои ногти, дрожащие пальцы. Пахло сивухой. Бутылка успела опустеть наполовину.
– Привет. – Курлык прислонился к дверному косяку.
– Здравствуй, Иван. Ты это… не бойся меня.
– Я не боюсь.
– Я, Иван, как лучше хотел.
По лицу старика пробежала рябь. Губа оттопырилась, оголяя коронки.
– Деда, ты помнишь Рязана?
– Кого?
– Мишу Рязанова с Армейской?
– А… – Дед покрутил рюмку. – Ну, помню.
Курлык облизался и спросил:
– Может, он понравится подвалу?