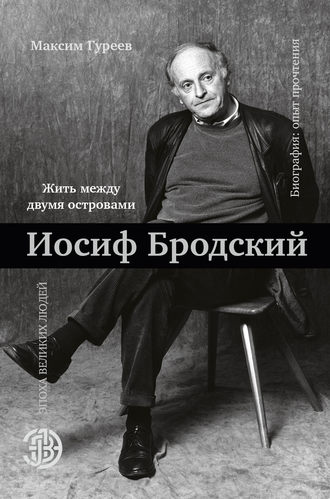
Максим Гуреев
Иосиф Бродский. Жить между двумя островами
Эписодий Третий
На Балтийском вокзале зашел в буфет. Путевые обходчики тут пили пиво, громко разговаривали, смеялись.
Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом.
В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.
Спорили в основном о защитнике Марке Геке и полузащитнике Стасе Завидонове, а еще конечно ругали Алова, который развалил команду и довел «Зенит» до задворок турнирной таблицы.
На задворках вокзала шла разгрузка товарняка, рабочие лениво переругивались, по репродуктору сообщили о прибытии почтово-багажного из Пскова на третий путь.
Иосиф вышел на улицу, и город впервые показался ему совершенно незнакомым, чужим, надменным, абсолютно выдуманным, впрочем, в этом была и своя польза.
Спустя годы Бродский скажет: «Если кто и извлек выгоду из войны, то это мы – ее дети. Помимо того, что мы выжили, мы приобрели богатый материал для романтических фантазий».
Город, в котором можно жить лишь придуманной жизнью. Так невозможно жить в Череповце или Москве, Вологде или Смоленске, Пскове или Новгороде, а в Ленинграде по-другому жить просто не получится. Иначе можно сойти с ума, если будешь ежедневно и ежечасно вдаваться в подробности и хитросплетения этих перспектив и дворов-колодцев, набережных и напоминающих взлетно-посадочные полосы военных аэродромов проспектов.
Из «Путеводителя по переименованному городу» Иосифа Бродского: «Двадцать километров Невы в черте города, разделяющиеся в самом центре на двадцать пять больших и малых рукавов, обеспечивают городу такое водяное зеркало, что нарциссизм становится неизбежным. Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков. Неудивительно, что порой этот город производит впечатление крайнего эгоиста, занятого исключительно своей внешностью. Безусловно, в таких местах больше обращаешь внимание на фасады, чем на наружность себе подобных. Неистощимое, с ума сводящее умножение всех этих пилястров, колоннад, портиков, намекает на природу этого каменного нарциссизма, намекает на возможность того, что, по крайней мере в неодушевленном мире, вода может рассматриваться, как сгущенное Время».
Время течет мимо гранитных берегов.
Мимо Александро-Невской лавры.
Мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства, Биржи и стоящих на рейде военных кораблей.
Если вот так идти по набережной, то возникает ощущение того, что ты на равных со Временем, что можешь либо опережать его, ускоряя шаг, либо отставать от него, оказываясь в прошлом, в древности, снисходительно взирая при этом на убегающую вперед черную воду Невы. Почему снисходительно? Да потому что ты уже был там, впереди, в будущем, и уже все знаешь о нем.
Конечно, такое знание весьма искусительно, оно рождает чрезмерные амбиции, до поры скрываемые, а порой и доходит (знание) до крайних своих проявлений – истеричности, нетерпимости к тому, что никак не вписывается в сложившуюся панораму реальности. Вернее сказать, ирреальности, того мифа, который и стал обыденностью.
Когда вернулся домой на Пестеля, то обнаружил весь свой класс сидящим в полутора комнатах – полный сюрреализм!
Мать лишь развела руками, увидев бешеный взгляд сына.
– Зачем явились?
И сразу, как из рукомойника на кухне полились нечленораздельные, вихляющие речи, забарабанили по дну бурой раковины о том, что Иосиф не должен бросать школу, что советской стране нужны молодые образованные люди, что надо соблюдать дисциплину и чтить преподавателей, которые отдают своим ученикам душу.
Что-то в этом услышалось дьявольское – душа исторички, секретаря парторганизации школы, кавалера ордена Ленина Лидии Васильевны Лисицыной переселяется в учеников, и они становятся похожими на нее, ходят строем, вместе поют песни, занимаются общественно-полезной работой, участвуют в субботниках, получают на уроках только пятерки.
И тут же сделалось невыносимо тоскливо:
Развалины есть праздник кислорода
и времени. Новейший Архимед
прибавить мог бы к старому закону,
что тело, помещённое в пространство,
пространством вытесняется. Вода
дробит в зерцале пасмурном руины
Дворца Курфюрста; и, небось, теперь
пророчествам реки он больше внемлет,
чем в те самоуверенные дни,
когда курфюрст его отгрохал. Кто-то
среди развалин бродит, вороша
листву запрошлогоднюю. То – ветер,
как блудный сын, вернулся в отчий дом
и сразу получил все письма.
Да, он живет в развалинах, и потому дышит свободно, а они ходят жить в новостройках, где подача кислорода, кипятка и электричества строго лимитирована.
В результате все закончилось скандалом, в школу Иосиф больше не вернулся, а одноклассники ушли, возмущенно хлопнув входной дверью, и в наступившей тишине можно было только слышать, как соседи сверху что-то сверлят.
Видимо вешают полку или картину.
Например, «Архитектурный пейзаж с каналом» Гюбера Робера из коллекции Государственного Эрмитажа, который они вырезали из «Огонька», вставили в рамку под стекло, и вот теперь эта величественная колоннада, нависшая над водой, убранная папоротником и побегами бананового дерева, освещает комнату в доме № 24 по Литейному проспекту – угол Пестеля, предзакатным светом Средиземноморья.
Нездешним светом, разумеется, абсолютно нездешним.
Впрочем, Александр Иванович Бродский предпочитал вешать на стенах своей квартиры фотографии собственного производства, потому как был уверен в том, что настоящий мужчина должен уметь все делать сам, своими руками, и украшать свое жилище в том числе.
К уходу сына из школы он отнесся сдержанно (по крайней мере, внешне), ведь по идее все к тому и шло, а когда узнал, что Иосиф устроился помощником фрезеровщика на завод № 671 (более известный в городе как «Арсенал»), едва сдерживал гордость за своего мальчика.
Однако постижение рабочей профессии оказалось непродолжительным.
Далее в трудовой книжке молодого фрезеровщика первого разряда появились следующие отметки: кочегар в бане, матрос на маяке, рабочий-коллектор в геологической партии, помощник прозектора в морге.
Из воспоминаний Иосифа Бродского, записанных Соломоном Волковым:
«Когда мне было шестнадцать лет, у меня возникла идея стать врачом. Причем нейрохирургом. Ну нормальная такая мечта еврейского мальчика. И вслед появилась опять-таки романтическая идея – начать с самого неприятного, с самого непереносимого. То есть с морга. У меня тетка работала в областной больнице, я с ней поговорил на эту тему. И устроился туда, в морг. В качестве помощника прозектора. То есть я разрезал трупы, вынимал внутренности, потом зашивал их назад. Снимал крышку черепа. А врач делал свои анализы, давал заключение… в юности ни о чем метафизическом не думаешь, просто довольно много неприятных ощущений. Скажем, несешь на руках труп старухи, перекладываешь его. У нее желтая кожа, очень дряблая, она прорывается, палец уходит в слой жира. Не говоря уже о запахе. Потому что масса людей умирает перед тем, как покакают, и все это остается внутри. И поэтому присутствует не только запах разложения, но еще и вот этого добра. Так что просто в смысле обоняния, это было одно из самых крепких испытаний… Но все это продолжалось сравнительно недолго. Дело в том, что тем летом у отца как раз был инфаркт. Когда он вышел из больницы и узнал, что я работаю в морге, это ему, естественно, не понравилось. И тогда я ушел».
Быть античным героем во всем, или хотя бы в том, чтобы вслед за Орфеем спуститься в Аид, причем, в прямом смысле – морги в советских больницах, как правило, занимали подвальное помещение.
Притом что Харона – старика в плаще – маленький Иосиф уже видел в Череповце при форсировании реки Шексны в переполненной («вода была вровень с бортами») лодке.
Тогда все остались живы, и обманувших Танатоса (бог смерти в греческой мифологии) на причале встречал хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА.
И воспевал:
Рекам бежать назад время, как зверю – в нору.
Горним вершинам рушиться наземь впору,
вместе с богами уподобляясь сору.
Мало осталось в мире правды и меньше чести.
Сердце мужское они покидают вместе.
Времени ход не значит, что торжествует правый,
и все же наша печаль нам обернется славой;
сильный лишь выживает. Переживает – слабый.
Подсознательная игра с эстетикой руин и брутальных ленинградских окраин, промзон и рабочих бараков, моргов и прозекторских, с эстетикой упадка и смерти, в конце концов, продолжилась, но уже в качестве сублимации и переосмысления собственной инаковости, непохожести на тех, кто тебя окружает.
При том, что Иосиф нарочито восхищался своими одноклассниками в последней школе на Обводном канале (в основном это были дети рабочих и путейцев с Балтийского вокзала) и с презрением отзывался о «полуинтеллигентной шпане» из центра, он тем самым интуитивно пытался снять напряжение, которое вызывала его персона в чуждой ему среде.
Попытка «опроститься», стать таким, как все, имела перед собой лишь одну очевидную цель – перенаправить негативную энергию, негативные переживания в конструктивное и комфортное бытование в агрессивной обстановке. «Романтические фантазии», меж тем, настойчиво культивируемые как единственная возможность сбежать от «свинцовой» действительности, оказались не такими уж и безобидными, как, впрочем, и любое (даже самое благое) начинание, доведенное до крайности.
Безэмоциональное наблюдение за препарированием трупов, за вскрытием черепных коробок, а также за посмертной дефекацией вовсе не было результатом психической патологии, но именно доведенного до крайности метафизического нечувствия, юношеского максимализма (цинизма, нигилизма), ставших закономерным результатом внутренних страхов и комплексов, рожденных на социальной и национальной почве. И как результат, происходит рождение того, что у Фрейда называется «структура мотивов, наличие которой мы должны рассматривать как основу более высокой социальной и культурной организации».
Впрочем, к Фрейду Бродский всегда относился с недоверием, видимо, ему претила всякая «структура», всякая «арифметика», когда себя видишь в подчиненном, зависимом положении. Впрочем, в Петербурге в свое время эту тему исчерпал бывший студент Родион Романович Раскольников, вооруженный топором, – Родина, Романовы, Раскол:
Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший «терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей».
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель брады густой,
Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время – волна, а Пространство – кит.
Стало быть, есть время и Время.
Время со строчной – это когда умирает Сталин, когда после блокады инвалидов и душевнобольных из Ленинграда выселяют на Валаам в бывший Спасо-Преображенский монастырь, когда «Зенит» оказывается в конце турнирной таблицы, когда рабочие завода «Арсенал» идут на обеденный перерыв, а школьники принимают участие в Ленинском субботнике…
А есть Время и с прописной – эта та метафизическая субстанция, с которой имеет дело поэт, подвергая ее постоянной реорганизации за счет изменения ритма и отсечения всяческих клише, находя при этом перфекционизм смыслом существования своего лирического героя, категорически не терпящего ничего банального и вторичного.
А еще есть Пространство, которое перемещается по воле Времени как исполинский кит или как левиафан, о котором сказано в Книге Иова: «Круг зубов его – ужас; крепкие щиты его – великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются… из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас… Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости».
Хотя уже в XVII веке Томас Гоббс наделил это мифическое существо иными функциями (в новейшей истории этот подход видится более актуальным): «В этом Левиафане верховная власть, дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа, должностные лица и другие представители судебной и исполнительной власти – искусственные суставы; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в естественном теле; благосостояние и богатство всех частных членов представляют собой его силу, salus populi, безопасность народа, – его занятие; советники, внушающие ему все, что необходимо знать, представляют собой память; справедливость и законы суть искусственный разум (reason) и воля; гражданский мир – здоровье, смута – болезнь, и гражданская война – смерть».
Пространство, таким образом, переиначивает фрейдовскую «структуру мотивов», потому что в ее основу отныне заложена «искусственная душа» с ее «искусственными суставами» и «функциями в естественном деле».
И тогда из глубин русской словесности в образе Поддонного царя (сам весьма напоминающий левиафана) выплывает рязанский, тверской ли губернатор Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, страшно вращает глазами и говорит, словно пишет: «Градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова… Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали…
Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована».
А ведь ничем, право, не отличается описанный классиком терминатор XIX-го столетия от Лидии Васильевны Лисицыной (и ей подобных), что раздает по частям свою душу питомцам, позвякивая при этом орденом Ленина, приколотым на лацкане пиджака с левой стороны.
Раздает и все никак не может раздать до конца. Может быть, потому что душа бессмертна? У Иосифа нет ответа на этот вопрос…
Меж тем так называемое «градоначальническое вещество» заполняет актовые залы и кабинеты, присутственные места и общественные здания, аудитории и райсобесы, в которых так или иначе приходится бывать даже античному герою, переплывшему Стикс и посетившему Аид.
Следовательно, конфликт неизбежен.
Однако интересно заметить, что юный Бродский не бунтовал против окружавшего его мира абсурда и не конфликтовал с действительностью (по крайней мере открыто), он просто создавал собственную, вернее сказать, это по умолчанию происходило в его семье: долгие вдумчивые прогулки с отцом по городу, беседы на различные нравственные темы, фотографирование проходных дворов, линий и набережных, общение с родственниками матери, в частности с ее сестрой – актрисой Театра им. В.Ф. Комиссаржевской и БДТ Дорой Моисеевной Вольперт.
И наконец чтение книг.
Из «Послесловия к “Котловану”» А. Платонова» Иосифа Бродского: «Если за стихи капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-молотобойцем в “Котловане” следовало бы признать первым серьезным сюрреалистом. Я говорю – первым, несмотря на Кафку, ибо сюрреализм – отнюдь не эстетическая категория, связанная в нашем представлении, как правило, с индивидуалистическим мироощущением, но форма философского бешенства, продукт психологии тупика. Платонов не был индивидуалистом, ровно наоборот: его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происходящего. Поэтому и сюрреализм его внеличен, фольклорен и, до известной степени, близок к античной (впрочем, любой) мифологии, которую следовало бы назвать классической формой сюрреализма. Не эгоцентричные индивидуумы, которым сам Бог и литературная традиция обеспечивают кризисное сознание, но представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу. В отличие от Кафки, Джойса или, скажем, Беккета, повествующих о вполне естественных трагедиях своих “альтер эго”, Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость».
В Ленинграде нет тупиков.
Дворы-колодцы соединяются с проходными дворами.
Проходные дворы выводят на линии, а линии в свою очередь впадают в проспекты, которые переходят в набережные, что соблюдают Неву.
Александр Иванович показывает сыну, как нужно правильно фотографировать город: во-первых, все вертикали зданий должны быть ровными, во-вторых, линия горизонта не может быть завалена, и, наконец, важно определиться с освещением, чтобы объем зданий или перспективы проспектов были оптимально подчеркнуты.
Иосиф слушает отца и думает о том, что подобным образом и рождается некий фиктивный мир, от которого взгляд впадает в визуальную зависимость. Парадоксальный город, потому что на самом деле вертикали тут уже давно перекошены, горизонт уходит в зависимости от положения фотоаппарата или поворота головы, и все перпендикуляры относительны, а что же касается до света, то о каком выгодном освещении в Ленинграде вообще можно говорить, если из 365 дней в году 200 тут пасмурные.
Низкое небо, болотные испарения, дождь-конденсат, промозглый ветер с залива, короткий световой день, редкие призрачные прохожие, более напоминающие литературных персонажей, а потому совершенно невыносимые в реальной жизни, – достаточное количество поводов впасть в «философское (читай, интеллектуальное) бешенство», к которому с годами привыкаешь, и даже находишь его весьма привлекательным и комфортным.
… В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения…
Момент соединения.
1962 год.
Адмиралтейская набережная.
Иосиф выходит из дома № 10, подходит к Неве и облокачивается на парапет.
Спустя годы, уже находясь в Америке, он так опишет этот эпизод из своей ленинградской молодости: «Я этот момент очень хорошо помню, если вообще у меня были какие-то откровения в жизни, то это было одно из них. Я стоял, положив руки на парапет, они так слегка свешивались над водой… День серенький… И водичка течет… Я ни в коем случае не думал тогда, что вот я поэт или не поэт… Этого вообще никогда у меня не было и до сих пор в известной степени нет… Но я помню, что вот я стою и руки уже как бы над водичкой, народ вокруг ловит рыбку, гуляет, ну и все остальное… Дворцовый мост справа… Я смотрю, водичка так движется в сторону залива, и между водой и руками некоторое пространство… И я подумал, что воздух сейчас проходит между водой и руками в том же направлении… И тут же подумал, что в этот момент никому на набережной такая мысль в голову не приходит… И тут я понял, что что-то уже произошло… И вот это впервые пришедшее сознание того, что с головой происходит что-то специфическое, возникло в тот момент, а так вообще этого никогда не было».
Таким образом, «некоторое пространство» может вместиться между водой и руками. Впрочем, об этом уже шла речь, когда левиафан всплывал из морской (а в данном случае, из речной бездны) и, по словам праведника Иова из земли Уц, становился «царем над всеми сынами гордости».
Проходящие же по набережной люди не обращают ни малейшего внимания ни на молодого человека, стоящего у парапета, ни на морское чудовище, из пасти которого «выходят пламенники», хотя, вполне возможно, что они видят всего лишь проходящий по Неве буксир типа БОР с включенными красными бортовыми огнями.
Буксир надрывно гудит, и Иосиф вспоминает, как в детстве они вместе с отцом часто ходили гулять на Соляной городок, где стояла военная техника времен Великой Отечественной войны, потом выходили на набережную Фонтанки и брели в сторону Невы, по которой против течения, истошно воя, пробирался к Володарскому мосту буксир «Флягин».
Однако после того, как у отца пять лет назад случился инфаркт, они перестали гулять вместе. Врачи запретили Александру Ивановичу длительные пешие прогулки, и теперь он сидел на скамейке в сквере перед Спасо-Преображенским собором и листал журнал «Огонек». Особенно он любил разглядывать цветные развороты – картины из коллекции Государственного Эрмитажа, репродукции из Лувра или работы студии военных художников или Митрофана Борисовича Грекова.
Отец всегда неукоснительно соблюдал предписания врачей и всякий раз засекал время, сколько ему надлежит провести на свежем воздухе на сей раз, потому что уже не ощущал себя здоровым человеком и не мог позволить себе того, что мог позволить в годы молодости.
В 1962 году 22-летний Иосиф Бродский по статьям 30В (хроническое или неизлечимое заболевание – невроз и врожденное заболевание сердца, стенокардия) и 8В (ограниченно годен к военной службе), а также в связи с временной нетрудоспособностью отца Бродского Александра Ивановича, будучи единственный кормильцем в семье, был освобожден от военной службы.
Через два года обитающий на дне Невы или Финского залива левиафан в очередной раз всплывет на поверхность, исторгнет из своей пасти пламя и возопит голосом начальника Ленинградского Дома обороны товарища Смирнова:
– Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни… У него полностью отсутствует понятие о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына в консультацию в диспансер, и он приносит оттуда справку, которую принял легкомысленный военкомат.
На Дворцовом мосту стоит хор сотрудников «легкомысленного военкомата», который исполняет стасим третий из трагедии «Медея» Еврипида:
«Скорей умру, чем покину
отчизны родную глину.
Не дай мне познать чужбину,
где смотрят в лицо, как в спину.
Не дай пережить изгнанья —
изнанки судьбы, незнанья,
праздного назиданья.
Не дай мне увидеть Феба
в пустыне чужого неба».







