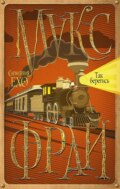Макс Фрай
Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 2
Зоран
Ева часто говорила: «Ты странный». И была совершенно права. Зоран был странным, и сам это признавал. И чувствовал себя странно, особенно в последнее время, особенно вот прямо сейчас. Пожалуй, скорей хорошо, но непонятно, как это «хорошо» описать. Даже себе ничего про себя объяснить не могу, – думал Зоран, лежа в постели и разглядывая потолок, по которому суетливо скакали фонарные блики. На всей Заячьей улице фонари не жестко закреплены на столбах, а подвешены на специальных декоративных петлях, вот и мотаются. Веселое получается зрелище, особенно когда снаружи ветер и дождь.
Всегда, сколько Зоран себя помнил, жизнь казалось ему прекрасной, если хорошо шла работа. Ну и наоборот. Все остальное тоже, конечно, имело значение. Но такое, второстепенное, что ли. Формальное, как справка из канцелярии какого-то небесного банка о состоянии счета, то есть судьбы. Была настоящая, главная жизнь, где кипит работа, или напротив, ни хрена не кипит, и это определяет, счастье тут у нас, или горе, стоим на месте, или несемся, и если несемся, то примерно куда. А все остальное в его восприятии выглядело каким-то отдельным дополнительным списком, вроде того, с которым ходят по магазинам, отмечают по мере приобретения: это у меня в корзине уже есть, а этого еще нет.
Вот и Зоран вполне бесстрастно отмечал в своем списке: жив, здоров (приписка: «можно пахать»), дом – есть, денег – хватает, друзья – есть (скорее все же просто приятели, зато до хрена), путешествия – нет (и это не дело), карьера – есть (хотя К. считает, для художника моего уровня это не карьера, а полная ерунда), семья – нет (сиротой остался так рано, что это просто факт биографии, а не боль), подружка – есть… а, уже нет, ушла.
Собственно, окончательно понял про «главную жизнь» и «дополнительный список», когда Ева сказала, что дальше так невозможно, что так вообще не бывает, что у людей бывает не так, что рядом с ним она чувствует, будто постепенно становится невидимкой, тает, словно уже умерла; короче, нельзя живого теплого близкого человека до такой степени не замечать. Зоран должен был огорчиться, Ева ему очень нравилась, но он почти ничего не почувствовал, только думал: «Я огорчен», – мысленно вычеркивал Еву из списка своих житейских приобретений, ставил пометку напротив пункта «подружка»: «не вышло, как жаль».
На самом деле все его женщины рано или поздно уходили по той же причине, что Ева. Говорили примерно одно и то же: ты живешь со мной рядом, словно нет никакой меня. И были правы, Зоран это и сам понимал. Думал: я, наверное, слишком художник, чересчур вдохновенный, как говорится, не от мира сего. О таких, как я только в книжках читать приятно, а жить рядом, должно быть, кошмар. Все про себя понимал, но не знал, как это исправить. Да и не особо хотел исправлять.
Не то чтобы он рисовал с утра до ночи. Иногда подолгу бездельничал, в смысле, физически ничего не делал, кисти в руки не брал, дни напролет бесцельно слонялся – по дому, по городу, по берегу моря, с друзьями по кабакам. Но все это время, пока лежал на диване, сидел на веранде, ходил по улицам, плавал, нырял, разговаривал, ел и пил, присутствовал в мире только формально, а всем своим существом пребывал на зыбкой границе между зримым светом и незримой внутренней тьмой, где мир соединяется с собственным отсутствием, полнота жизни с загадочной пустотой, в которую мы, – говорил себе Зоран, – после смерти уходим. Никто не знает, что там. Но если долго, внимательно, самоотверженно – в буквальном смысле самоотверженно, отвергая себя и весь свой предыдущий опыт – в эту пустоту смотреть, она становится зримой, кромешная тьма постепенно заполняется видимым глазу светом, и тогда оказывается, что никакой пустоты в мире нет, только прискорбная человеческая неспособность разглядеть восхитительные детали того, что нам, немощным, кажется пустотой.
Быть художником, – думал Зоран – означает преодолевать эту немощь, каждый раз как впервые; на самом деле, не «как», а всегда впервые, всегда. А потом рисовать – не по памяти даже, с натуры. Спешить, стараться успеть, пока на этой зыбкой границе еще стоит хоть какая-то часть тебя.
Звучит отлично. И результат получался отличный. И жизнь на границе между человеческим миром и тайной – отличная жизнь. Но другим людям в этой моей отличной жизни делать и правда особо нечего, – думал Зоран. – Наверное, по-дурацки себя чувствуешь, когда тот, кто рядом, постоянно пялится в пустоту.
Сна не было ни в одном глазу, хотя перед тем, как лечь, выпил – не с горя и не на радостях, а именно ради снотворного эффекта – полбутылки контрабандного сладкого «снежного», так оно называлось, вина. Глупо ворочаться с боку на бок, – решил Зоран и встал. В спальне было прохладно, поэтому он закутался в одеяло, которое волочилось за ним по полу, как жреческий шлейф эпохи Первой Империи. Подумал: жаль, что за мной сейчас никто не подглядывает, такое зрелище зря пропадает! Ну зато самому смешно.
Подошел к окну, прижался лбом к стеклу, потому что оно гладкое и холодное, реальное, как мало что в моей жизни, приятно его ощущать. И еще потому, что за окном – зимний запущенный сад. Ну как – сад, небольшой палисадник, заросший высокими старыми туями. И бурьяном каким-то живучим, которому нипочем зима. А может, не бурьяном, а специальными декоративными зимними травами? Черт разберет. Что выросло, то выросло, раз смогло, пусть живет, – думал Зоран, глядя, как свет уличных фонарей, трепеща, перепрыгивает с ветки на ветку, и улыбался – без причин, просто так.
Честно говоря, особых причин улыбаться у Зорана не было. Умом он понимал, что все плохо, Ева только вчера ушла. Ева такая хорошая, – думал Зоран, – как я теперь без Евы, месяц практически не расставались, я был влюблен, привязался, привык, люди грустят, когда расстаются с любимыми, и мне сейчас надо грустить, – говорил он себе, но все равно почему-то был счастлив, как почти всегда в последнее время. Как-то даже, пожалуй, слишком. Не в том смысле, что хотел бы перестать быть счастливым, а только в том, что к такому состоянию не привык. Каждый день, проснувшись, начинал улыбаться прежде, чем успевал открыть глаза, и это было странно и непривычно. Зоран хорошо помнил, что раньше тяжело вставал по утрам, даже если нормально выспался, все равно поначалу в голову неизменно лезли мрачные мысли о бренности бытия, до первой чашки крепкого кофе он ползал по дому, как сонная зимняя муха, да и потом ему надо было спокойно посидеть часа полтора, чтобы почувствовать себя нормальным живым человеком. Но теперь все изменилось, стало не так. Иногда Зоран думал: это потому, что я наконец-то сюда переехал, любит меня этот город, и климат мне идеально подходит, и море, и воздух, и люди, да все подходит, здесь мое место силы, как в таких случаях говорят, – но тут же спохватывался: ничего себе «наконец переехал»! Почти двадцать лет назад. А счастливая легкость пришла недавно. Кажется, перед открытием выставки, в сентябре. Или уже после открытия? В общем, примерно когда-то тогда.
5. Зеленый огонь
Состав и пропорции:
джин – 45 мл;
тминный ликер «Kummel» – 10 мл;
зеленый мятный ликер «Crème de menthe» – 10 мл;
лед.
Смешать ингредиенты в шейкере со льдом. Процедить в наполненный льдом коктейльный бокал.
Тони, снова Тони, опять
Тони просыпается в сумерках; это, на самом деле, не так уж поздно, в декабре темнеет в четыре, а смеркаться в пасмурный день начинает чуть ли не в два. Получается, мало поспал, потому что уснул уже засветло, примерно в девять утра; это перебор даже для Тони, но так отлично сидели, ничего не хотелось менять, пока Стефан не спохватился, что ему пора на работу. Смешно, конечно: быть неведомо чем, числиться начальником несуществующего отдела полиции, охраняющего незримую, которую и представить-то невозможно, границу между реальностью и ее тайной изнанкой, между явью и сном, но все равно торопиться на службу, как все нормальные люди, с утра.
И я такой же смешной, – думает Тони, укоризненно озирая огромный холодильник, в котором нет сейчас ни черта, кроме собственно холода. – Стал неведомо чем, владельцем несуществующего кафе, где завсегдатаи, в основном, смутные тени сновидцев, заплутавшие гости из иных измерений, демоны, духи, окрестные оборотни и другие невообразимые существа; условно нормальных людей по пальцам пересчитать можно, включая случайных, особо везучих гостей, но все равно почти каждый день приходится закупать обычные человеческие продукты, потому что одной иллюзией сыт не будешь, ее надо материей разбавлять.
И вот все у нас так! – думает Тони, сонно озираясь в поисках джезвы. – Иллюзии, материя, настоящее, несуществующее, невозможное и обыденное, все вперемешку. Анархия и бардак.
Тони редко об этом всерьез задумывается. Жизнь у него такая, что хоть убейся, а не охватишь умом. Поэтому думать лучше не о парадоксальном устройстве наваждения класса Эль-восемнадцать, частью которого Тони, как ни крути, сам является, а обо всем остальном. Например, о меню на вечер, списке продуктов, и о том, куда за ними лучше пойти. Или не полениться, взять машину в каршеринге и доехать до рынка Бенедикта, благо он работает допоздна? И о погоде – в смысле, как одеваться. И о том, где мы сегодня есть, – весело думает Тони. – Вряд ли по-прежнему на Доминикону. Мы там и так задержались на целых два дня.
Вот к чему, конечно, совершенно невозможно привыкнуть, так это к постоянным перемещениям, сегодня здесь, завтра там. В начале декабря вообще на Правом берегу оказались, в глубине проходных дворов на Кальварию, Тони тогда поначалу здорово огорчился: ну уж здесь-то нас никто не отыщет, – однако именно в тот вечер в кафе случился аншлаг. А потом внезапно появились в Жверинасе, и там вышло совсем смешно: вход в кафе выглядел как старый лодочный сарай; он, собственно, и был сараем, на крыше которого лежала старая рассохшаяся байдарка. От такого соседства бедняга настолько одухотворилась, что человеческим голосом попросила чего-нибудь выпить, получила стакан настойки на забытых снах, а под утро куда-то исчезла, причем с концами. Неловко получилось, то-то хозяевам сюрприз. Стефан это дело потом из любопытства расследовал, сказал, байдарка, спьяну расхрабрившись, как-то сползла по склону к реке Нерис, где превратилась в миниатюрный трехмачтовый парусник и уплыла в неведомом направлении, так что одним «Летучим Голландцем» в мире стало больше. Правда, пока никому не известно, в каком.
Тони улыбается, вспоминая спятившую байдарку, натягивает штаны поприличней, все-таки предстоит выход в свет. Придирчиво оглядывает себя в зеркало – я вообще адекватно выгляжу? Как нормальный человеческий человек? Ну, вроде да – одна голова, две руки, две ноги, одет, как большинство прохожих на улице, а что стричься давно пора, так это и с нормальными людьми постоянно случается. Но на всякий случай Тони надевает серую трикотажную шапку, шапка – именно то, что надо, актуальный элемент гардероба, в этом смысле, очень удобное время года зима, – думает он, шнуруя ботинки. В этом смысле зима как раз крайне неудобное время года, в шлепанцах на босу ногу далеко не уйдешь.
* * *
Тони Куртейн откладывает в сторону книгу – потом дочитаю, не до пыльных бунтов эпохи Второй Империи мне сейчас – покидает любимое кресло, в котором сегодня ему не сидится, все неудобно, неловко, мешает, как будто задницу чьей-то чужой подменили, пока спал. Он улыбается почти против воли, вообразив подробности преступления века и заголовки в вечерних газетах: «Похищена бесценная задница смотрителя Маяка!» – и отправляется в кухню. Открывает холодильник, снова его закрывает, потом осматривает буфет. Еды в доме даже больше, чем надо одному человеку. Но из того, что есть, ничего не хочется. Хочется непонятно чего.
Весь день сегодня наперекосяк, – думает Тони Куртейн. – А все потому, что разбудили до рассвета, засранцы; это в последнее время какая-то новая мода: нажраться на Другой Стороне до возвращения в детство и в таком виде с песнями вваливаться на Маяк. Сердится, но и сам понимает, что несправедлив: для того и Маяк, чтобы люди на его свет приходили, а в какое время суток и в каком состоянии, их дело, меня не касается, лишь бы возвращались домой с Другой Стороны.
На самом деле, выпроводив тех шумных гуляк, Тони Куртейн снова лег и нормально выспался, ему просто обидно, что не удалось ни досмотреть, ни даже толком запомнить прерванный их появлением предутренний сон. Там была какая-то фантастическая вечеринка с фейерверками и драконами на Другой Стороне, в кабаке двойника, а подобные сны Тони Куртейн любит больше всего на свете; как в старину говорили, душу за них бы продал.
Он бы и наяву не оказался от таких вечеринок, да какое уж тут «наяву». Поди до них доберись, – думает Тони Куртейн. – Чуваки на Другой Стороне веселятся, а я здесь сиднем сижу.
На Другой Стороне он был всего дважды, и оба раза как-то само получилось, хотя и этого, по идее, быть не могло. До сих пор считалось, что смотритель Маяка попасть на Другую Сторону вообще ни при каких обстоятельствах не может. И со своим двойником до самой смерти не встретится. Но ему повезло.
Тони Куртейн ставит на плиту чайник – когда голоден, а от еды воротит, чай вполне заменит горячий суп. Пока вода нагревается, Тони Куртейн стоит у окна, прижавшись лбом к стеклу, смотрит на пустынную улицу. Думает, мысленно обращаясь к своему двойнику: ты бы, что ли, сам в гости зашел, раз уж я не могу. Как тогда, в сентябре. Отлично же посидели. Хотя ты же, наверное, тоже по заказу не можешь, а то бы давно пришел.
И Эдо уже три дня не было, – мрачно думает Тони Куртейн. – Сидит на своей Другой Стороне, как медом ему там намазано. Работа работой, нельзя отвлекаться, это я понимаю, но на полчаса-то всегда можно зайти.
Думает так, но и сам понимает, что несправедлив. Не медом там Эдо намазано, совсем иначе это вещество называется. Например, «суперклей». Зайти на полчаса хорошее дело, когда живешь на соседней улице. А с Другой Стороны на Эту туда-сюда не набегаешься, особенно если не можешь пройти сам, без проводника. Но кому от этого понимания легче, – сердито думает Тони Куртейн. – Уж точно не мне.
Похоже, – с удивлением понимает Тони Куртейн, – я банально соскучился. Даже не столько по Эдо и своему двойнику, сколько по самому себе, тому, каким становлюсь в хорошей компании. Засиделся дома один без друзей, вечеринок и других развлечений, и предсказуемо скис. А это не дело. Мне киснуть нельзя. Я же так все на хрен испорчу. Яркость света совершенно точно зависит от смотрителя Маяка. А вдруг не только она? Скорбь и отчаяние, как показала практика, делу даже на пользу, но может, когда я просто всем вокруг раздражен, идти на мой свет становится неприятно? И люди из-за этого начнут застревать на Другой Стороне? Вроде ни о чем подобном в инструкциях не написано, но Маяк – дело темное. Никто, включая сотни моих предшественников, толком не знает о нем ни черта, только догадываются – каждый о чем-то своем. Ладно. Надо бы мне погулять, что ли, выйти. Я же осенью, было дело, давал себе обещание хотя бы раз в два-три дня выбираться к морю. А потом забил и забыл. Главное, мне же у моря нравится! И настроение сразу делается, как надо. А я все равно туда не хожу, как будто назло ему и себе.
Тони Куртейн достает из буфета бутылку темного рома, батон травяного хлеба, берет недавно заточенный нож и режет хлеб на тонкие ломти. Бутербродов должно быть много; мало ли, что сейчас никаких бутербродов не хочется, у моря что угодно отлично зайдет.
* * *
Тони выходит во двор, вдыхает сладкий от сырости воздух, в сумерках синий, кажется, даже на вкус. Отличный сегодня день, очень теплый для декабря, ветер больше похож на весенний, и запах принес совершенно апрельский, травяной и одновременно медовый, словно дикие сливы уже зацвели. Озирается – где мы сегодня? Так сразу, навскидку все равно непонятно. Не был здесь то ли очень давно, то ли вообще никогда. Как долго ни живи в городе, сколько по нему ни броди, всегда останутся белые пятна, неисследованные места.
Ладно, – думает Тони, – двор как двор, дома послевоенной постройки, наверняка где-нибудь в Новом городе, там таких полно.
Тони оборачивается назад: интересно, откуда я вышел? Как сегодня выглядит вход в кафе? За спиной у него не гараж, не дровяной сарай, не заброшенная пристройка, как чаще всего случается, а обычная дверь подъезда, только не коричневая, как все остальные, а цвета морской волны. Без кодового замка и без ручки, как хочешь, так и открывай. Ну, бывает. Пару раз уже точно была обычная дверь подъезда, на Швитригайлос, на Басанавичюс и где-то еще, – вспоминает Тони.
На самом деле, совершено неважно, как выглядит вход в кафе, кому надо, как-нибудь да войдет, остальные его не заметят, а если даже заметят, не обратят внимания, значения не придадут. Но все равно интересно. Каждый раз, как впервые: где мы сегодня и как выглядит вход? Словно узнаешь о себе что-то новое, хотя хрен это знание расшифруешь. Сине-зеленая дверь – почему именно этот цвет? И почему дверь без ручки? Просто для смеху, или это пророчество, что сегодня к нам никто не придет? А двор на… – ага, на Паменкалне, так и есть, в Новом городе, я угадал, – думает Тони, выйдя на улицу и оглядевшись по сторонам; понятно теперь, почему двор незнакомый, мало в этом районе гулял. Вот интересно, то, что мы сегодня в дворе на Паменкалне, это просто так, обычная лотерея без особого смысла, или все-таки что-нибудь означает? И если да, для кого это важно – для меня, или для самой улицы, или для тех, кто сегодня вечером к нам придет? Когда речь о кафе, Тони всегда думает в множественном числе: «мы», «к нам», «у нас», – хотя и хозяин, и повар там только он. Но если бы не было этого «мы», всего остального тоже бы не было. Наваждению нужны те, кому оно может мерещиться, морок немыслим без того, кто его однажды навел.
* * *
Тони стоит на улице Паменкалне, напротив холма и никак не может решить, что ему теперь делать: брать машину и ехать на рынок, или топать пешком до большого супермаркета «Максима», благо отсюда недалеко? Ладно, – наконец говорит себе Тони, – чего я на том рынке не видел. Зелень там свежая, лучше, чем в супермаркете. Но с мясом в это время уже не очень. А в «Максиме» какой-никакой выбор всегда есть. И остальное найдется.
И нести покупки вниз, под гору будет легко, – думает Тони, перебегая дорогу в неположенном месте, потому что педантично следовать правилам уличного движения, будучи фрагментом наваждения класса Эль-восемнадцать, все-таки перебор.
Тони поднимается по склону холма Тауро, скользкому от мокрых осенних листьев, облетевших еще месяц назад, в ноябре; мог бы подняться по лестнице, но идти по ступенькам скучно, а от скуки он быстро устает. Думает обо всем понемножку, но в основном – про будущий ужин, составляет меню; ясно, что зимой всегда отлично заходит Немилосердный суп, и варить его просто, а вот что кроме супа? Только не пироги, уже надоели, они в последнее время практически каждый день. Ну не котлеты же, – думает Тони и тут же спрашивает себя: – А собственно, почему не котлеты? Половину можно испечь в духовке, половину пожарить на сковороде. Я сто лет уже котлеты не делал, их сметут на ура.
Приняв решение, Тони наконец замечает, что больше не поднимается на холм, а идет по совершенно ровной поверхности, причем не по траве и не по асфальту, а по песку, по самой кромке прибоя, и к его ботинкам неторопливо, как хищник, уверенный в том, что жертва уже никуда не денется, приближается темная, густая, тяжелая морская волна. Жертва и правда никуда не делась, в смысле, Тони мог бы успеть отбежать подальше, но так охренел, что не стал.
Тони стоит на берегу Зыбкого моря и думает: елки, ну я попал. Это как вообще? Я же ничего специально не делал. Я вообще был не в том настроении… Или как раз именно в том?
Тони счастлив, потому что внезапно оказаться на тайной изнанке города – огромное счастье, тут нечего обсуждать. Но и сердит, как всегда, когда нарушаются планы. И совершенно растерян, очень уж неожиданно получилось. Именно сегодня ни о чем таком не мечтал, не прикидывал, как бы так исхитриться, даже не вспоминал.
Тони думает: ладно, ничего не поделаешь, я уже тут. Будем надеяться, у кого-нибудь всемогущего хватит могущества сегодня меня заменить. Все взрослые лю… непостижимые сущности, как-нибудь не пропадут. Если сильно проголодаются, пиццу навынос закажут, а выпивку сами в буфете найдут, – говорит себе Тони и одновременно прикидывает, что большая Максима работает круглосуточно, так что когда бы отсюда ни выбрался, надо будет зайти туда за продуктами, потому что дома реально шаром покати. Вряд ли стану возиться с котлетами, – думает Тони, – но уж суп-то точно можно сварить.
Откорректировав таким образом планы на вечер и окончательно успокоившись, Тони закатывает до колена штаны, снимает промокшие насквозь ботинки и такие же мокрые, хоть выжимай, носки. Думает: как же все-таки тут тепло! Не лето, конечно, но примерно как у нас в октябре. Интересно, это случайно мне повезло с погодой, или климат напрямую зависит от свойств материи, поэтому здесь каждую зиму так хорошо? Надо же, и песок еще теплый, хотя уже ощутимо стемнело, наверное, был солнечный день. Даже море прогрелось, – думает Тони, с удовольствием шлепая по кромке прибоя. – Нырять я сейчас, пожалуй, все же не стал бы, а вот так погулять – в самый раз.
* * *
Тони Куртейн выходит на конечной остановке трамвая; в вагоне он был один. Мало охотников ездить к морю вечером буднего дня в декабре. А может, это Зыбкое море устало от нас за лето и не хочет, чтобы люди к нему толпами ездили? Не удивлюсь, если решает оно, – думает Тони Куртейн, пока идет по улице Пасмурных Вечеров, ускоряет шаг, словно опаздывает на встречу. Хотя ни с кем о встрече не договаривался и прийти к определенному часу не обещал. Однако продравшись сквозь заросли усыпанного крупными, почти черными ягодами шиповника и оказавшись на пляже, он переходит на бег и еще издалека, громко, не стесняясь возможных свидетелей, кричит, обращаясь к Зыбкому морю, как к старому другу: «Это я! Прости, что так долго не приходил, – и добавляет тихо, почти шепотом, потому что уже добежал, встал так близко, что ботинок лижет волна: – Сам, знаешь, честно, не понимаю, почему с сентября ни разу сюда не доехал. Дурак я совсем у тебя».
Море отвечает что-то на своем языке, слов не понять, но, судя по интонации, ласково. С точки зрения моря, – вдруг понимает Тони Куртейн, – времени не то чтобы вовсе нет, но течет оно явно как-то иначе. Иногда наше «каждый день» для него все равно слишком редко. А иногда даже «год назад» – как вчера.
Тони Куртейн стоит на кромке прибоя, босой, закатав штаны до колен. Все-таки Зыбкое море есть Зыбкое море, законы природы ему не писаны, день был солнечный, но холодный, а вода сейчас теплее, чем была в сентябре.
В кои-то веки он ни о чем не думает, то есть правда вообще ни о чем, просто смотрит на темную зимнюю воду, густую, тяжелую, как расплавленное стекло, и сам ощущает себя отчасти водой, а отчасти все еще человеком, потому что будь он совсем водой, вряд ли вот так стоял и смотрел бы на ленивые волны. Будь он водой, он бы тек.
Наконец Тони Куртейн приходит в себя настолько, что совершенно по-человечески расстегивает теплую куртку, достает из внутреннего кармана бутылку темного рома, и рокот прибоя становится отчетливо одобрительным: вот это ты правильно делаешь, вовремя вспомнил, давай угощай. Тони Куртейн отпивает совсем небольшой глоток, щедро плещет ром в море и почти беззвучно, одними губами произносит свой любимый, самый короткий в мире тост: «Будь!» В этот момент на его плечо ложится рука и голос, на этот раз отчетливо человеческий, шепчет в самое ухо: «И мне оставь». Тони Куртейну даже оборачиваться не надо, кто хотя бы однажды ощутил прикосновение двойника, ни с чем другим его не перепутает. Поэтому он только спрашивает: «Это ты вообще как?»
* * *
– Увидел тебя и сразу подумал: теперь все понятно, вычитал в своих книжках какое-нибудь древнее заклинание и вызвал меня, как демона из преисподней! – хохочет Тони, вгрызаясь в бутерброд с ветчиной с такой жадностью, словно год сидел на диете. Впрочем, он и правда сегодня не завтракал. Просто не нашел, чем.
– Не-а, не вызвал. Я не умею. Но кстати, как раз сегодня тебя вспоминал и понял, что очень соскучился, – с набитым ртом отвечает Тони Куртейн, который тоже не завтракал и не обедал, потому что ничего не хотел. Но теперь захотел как миленький. Великая вещь морской воздух. И конкуренция тоже великая вещь. – Мне, прикинь, приснилась какая-то вечеринка в твоей бадеге. Там еще то ли дракон запускал фейерверки, то ли из фейерверков родился дракон, теперь уже ничего толком не помню. Невовремя разбудили. Ужасно обидно. Хороший был сон.
– Вечеринка, кстати, была, но вроде бы без драконов, – неуверенно говорит Тони. – А фейерверки… Ай, слушай, так это, наверное, Нёхиси превращался. Он все время во что-нибудь этакое превращается, иногда как раз с фейерверками, мы просто давно привыкли, уже и внимания не обращает никто… Погоди, это, что ли, у нас бутерброды уже закончились?
– Закончились, – подтверждает Тони Куртейн. – Я же на тебя не рассчитывал. Мало сделал. Всего-то двенадцать штук.
– В следующий раз рассчитывай, – ухмыляется Тони. – В твоем положении следует быть оптимистом. Твердо знать, что как бы ни складывалась жизнь, а в любой момент не пойми откуда может вывалиться голодающий допельгангер и слопать все, что найдет.