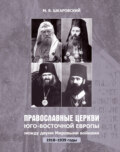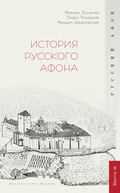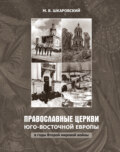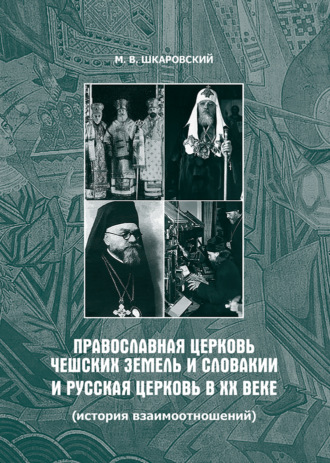
М. В. Шкаровский
Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Русская Церковь в XX веке (история взаимоотношений)
После окончания Второй мировой войны епископ Елевферий играл активную роль во внешнеполитической деятельности Русской Православной Церкви. В частности, с 23 октября по 14 ноября 1945 г. он возглавлял делегацию Московского Патриархата, направленную в Харбин для переговоров с архипастырями китайских православных епархий. По результатам этих переговоров был подписан акт о воссоединении православных архиереев (митрополита Мелетия, архиепископов Нестора и Димитрия, епископа Ювеналия), служивших в Китае, с Московским Патриархатом.[176]
Перед отъездом в Чехословакию Владыка Елевферий, как указывал в одном из писем Патриарх Алексий I, получил «прекраснейшие советы» на приеме у Г.Г. Карпова.[177] При этом перед экзархом были поставлены и политические задачи. В материалах Совета по делам Русской православной церкви они определялись так: «Укрепление Православной церкви в Чехословакии в противовес католицизму, объединение с Православной церковью униатов, а также установление дружеских отношений с Чешской национальной церковью и другими религиозными объединениями, которые могли бы оказаться полезными в борьбе против католической церкви».[178] Вскоре после учреждения экзархата – 5 июня 1946 г. архиепископ Сергий (Королев), ранее управлявший русскими приходами в Чехословакии, был переведен в Вену с поручением управлять православными церквами в Австрии, а затем и в Венгрии.[179]
31 августа 1946 г. Епархиальное собрание избрало архиепископа Елевферия правящим архиереем Чешской епархии. Экзарх проживал в Праге, но 10 июля 1947 г. был утвержден и временно управляющим Прешовско-Словенской епархией. 26 апреля 1946 г. архиепископа наградили правом ношения креста на клобуке. В это время на всей территории Чехословакии действовало немногим более 30 православных приходов: 12 чешских (15 священнослужителей), 20 словацко-русинских (10 священников) и 4 русских (16 священнослужителей).[180]
В сентябре 1946 г. Владыка Елевферий посетил находившегося в Карловых Варах на лечении Патриарха Сербского Гавриила (Дожича). После освобождения из немецкого плена тот поселился в Риме и долгое время не желал переезжать в Югославию, где после окончания Второй мировой войны к власти пришло коммунистическое правительство И.-Б. Тито ожидая возвращения в страну короля Петра. После переговоров, проведенных архиепископом по поручению священноначалия и с санкции советских властей, Патриарх Гавриил принял решение о возвращении в Югославию, что и сделал 14 ноября 1946 г.[181]
В докладе Г.Г. Карпова в ЦК ВКП(б) от 14 февраля 1947 г. отмечалось, что архиепископ Елевферий «по поручению патриарха Алексия, провел с Гавриилом ряд бесед и убедил его в необходимости вернуться в Югославию и сотрудничать с демократическим правительством Тито, оставив надежды на восстановление монархии».[182] В докладе помощника Карпова С.К. Белышева заместителю председателя Совета Министров СССР К.Е. Ворошилову о положении Православных Церквей в Западной Европе от 3 марта 1947 г. также говорится о том, что Патриарх Гавриил изменил свое отношение к правительству И.-Б. Тито и решил вернуться в Югославию под влиянием архиепископа Елевферия, после того как тот несколько раз разговаривал с Патриархом во время его лечения в Чехословакии.[183]
Однако лишь решением от 15 мая 1948 г. Священный Архиерейский Собор Сербской Церкви окончательно отпустил Чешскую епархию в юрисдикцию Московского Патриархата.[184] Официальная передача епархии была проведена лично Патриархом Гавриилом во время Совещания глав и представителей Поместных Православных Церквей в Москве в июле 1948 г.
Главным направлением деятельности архиепископа Елевферия в должности экзарха стало восстановление Православной Церкви в Чешских землях после ее фактического уничтожения в период немецкой оккупации. Общее впечатление, вынесенное Владыкой из ознакомления с местной церковной жизнью, первоначально было, по его словам, «безотрадным». В первом докладе, направленном в Москву 20 июня 1946 г., экзарх писал: «Чувствую себя совершенно одиноким. Не с кем посоветоваться, как правильно поступить в том или ином случае. Здесь иной народ, иные обычаи и законы. Нужно все изучить, но как изучить, когда не знаешь чешского и словацкого языка, а чтобы ими хорошо владеть, потребуется время не один год… Засилье католиков сказывается везде. По всей Чехословакии множество католических костелов, частое торжеств[енное] богослужение, масса католич[еского] духовенства, миссионеров, проповедников, монахов и монахинь, неограниченные средства, усиленная пропаганда среди всех слоев населения. И с католиками считаются; в отдельных местностях – ясная их поддержка…».[185]
Посетив большую часть чешских и русских приходов, архиепископ Елевферий был смущен отсутствием единства между ними. Главную причину он видел в том, что богослужебные обычаи православных чехов существенно отличались от русских литургических традиций. В своем докладе экзарх отметил скромность и краткость богослужения в чешских приходах: «Все как-то бледно, буднично, холодно. Русские, привыкшие к продолжительным, благолепным службам, красиво и торжественно обставленным, в чешские церкви поэтому почти и не ходят, тем более что в них служат по новому стилю». На попытки Владыки изменить положение (ввести ежедневные службы, придать им торжественность и красоту и пр.) местное духовенство отвечало, что «это все здесь «не принято», что епископ Горазд, устанавливавший богослужебный чин, любил скромность и часто служил один, без священников и без диакона, и тут так привыкли, и если будем изменять что-либо, то чешские православные поймут это в смысле нарушения их церковных традиций и изменения форм их церковной жизни, а им обещано Московской Патриархией, что все эти формы будут им оставлены без изменения; а что касается церковной красоты и торжественности, то «все это нужно иметь в душе», и что короткими службами чехи очень даже довольны. «В богослужении чехов нет истовости, торжественности, привычной русским красоты и теплоты… Чешское духовенство не стремится своему богослужению придать все эти качества, считая все это «византизмом» и крепко держится своих форм и обычаев…Русские избегают ходить в чешский храм, считая, что там не изжит дух католицизма, или, вернее, протестантизма, а чехи не ходят в русский храм потому, что, по их мнению, там много лишнего, совсем не нужного. Русские косо поглядывают на того, кто ходит в чешскую церковь, и наоборот». Когда иеромонах Андрей (Коломацкий), защищая принципы единения Православия, пытался служить и в русских, и в чешских храмах, то от русских он получил обвинения в «измене родине и православию», в то время как чехи в категорической форме потребовали «не вводить здесь русских обычаев».[186]
Охарактеризовать словацкие приходы экзарх не имел возможности из-за нехватки времени для знакомства с ними. Однако он отметил активную католическую пропаганду на Прешовщине и отсутствие поддержки православных со стороны чехословацких властей, что, по его мнению, становилось неотложной задачей руководства экзархата. Церковную обстановку осложняло также нежелание разнонациональных приходов подчиняться единому Епархиальному совету. Чехи, русские и словаки требовали собственных органов управления. Проявила себя и та часть чешского духовенства, которая была недовольна сменой юрисдикции: «Глухо протестующая и теперь… эта группа стоит за сербскую юрисдикцию или автокефалию; она боится того, что российская церковь в дальнейшем совершенно подчинит себе чешскую церковь и аннулирует ее автономию», – писал Владыка.[187]
Негативно оценивал экзарх и материальное разделение духовенства по национальному признаку. Если так называемое конгруа – доплата к церковному содержанию, выплачивавшееся духовенству государством в зависимости от образовательного ценза и семейного положения, получало практически все чешское духовенство и часть словацкого, то русские священники существовали лишь на плату за требы и добровольные пожертвования прихожан, им конгруа, вопреки постановлению чехословацкого правительства от 17 февраля 1928 г. «О выплате заработной платы духовенству», не выплачивалось.[188]
Не взирая на различные сложности и проблемы, экзарх уже ко времени первого доклада успел сделать довольно много: выпустил архипастырское послание к пастве, провел учет всех приходов, нанес несколько визитов в государственные ведомства, познакомился почти со всем духовенством, совершил ряд богослужений в различных храмах, разослал по приходам издания Московской Патриархии, установил более частое богослужение в кафедральном храме Праги и т. д. В ближайшее время Владыка планировал: создать Экзарший совет, составить общий устав для приходов в Словакии, восстановить монастырь преп. Иова Почаевского в Ладомирово, учредить в Словакии типографии, а затем и церковный журнал, посетить все приходы, подобрать литературу для миссионерской работы и т. п.[189]
Несмотря на сомнения архиепископа Елевферия, в соответствии с «Определение об условиях приема Чешской Православной Церкви в состав Московской Патриархии» от 14 января 1945 г. в Чешской епархии должны были сохраняться формы церковной жизни, введенные здесь в 1920-е – 1930-е гг. епископом Гораздом. При этом Чешской Православной Церкви рекомендовалось отказаться от западной Пасхалии и перейти на восточную. Экзарх в точности исполнил определение, преодолев некоторое сопротивление чешской паствы. 25 мая 1948 г. он доложил Патриарху Алексию I, что в этом году во всех приходах экзархата Пасха Христова праздновалась по юлианскому календарю.[190]
Хотя принципиальная договоренность об организации экзархата была достигнута на уровне Министерства иностранных дел СССР и Чехословацкого правительства, решение кадровых вопросов оставалось за Московской Патриархией. Правда, как видно из архивных документов, в некоторых случаях Совет по делам Русской православной церкви изменял решение Патриарха Алексия I. Так, в резолюции на обращение Предстоятеля от 11 января 1947 г. о поездке архиепископа Елевферия (Воронцова) в Вену, рукой председателя Совета Г.Г. Карпова 13 января было написано: «…После переговоров с патриархом решили, что в Вену поедет не Елевферий, а Шишкин».[191] К этому времени секретарем экзарха был назначен будущий доцент Ленинградской Духовной Академии А.Ф. Шишкин, командировка которого в Чехословакию была санкционирована распоряжением Совета Министров СССР от 12 июня 1946 г.
10-24 июня 1946 г. Г.Г. Карпов по приглашению чехословацких властей совершил поездку в страну, во время которой встретился с руководством страны, архиепископами Елевферием (Воронцовым) и Сергием (Королевым), посетил Прагу, Братиславу, Карловы Вары, Мариански Лазни и выступил перед местной общественностью с тремя докладами: «О положении и состоянии Православной церкви в Советском Союзе», «О роли Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР» и «О свободе совести и вероисповедания в СССР», тексты которых были согласованы с ЦК ВКП(б).
12 июня после приема у министра просвещения и культов Зденека Неедлы помощник Карпова Н.И. Блинов записал в дневнике, который вел в ходе всего визита: «В беседе Георгий Григорьевич обратил внимание Неедлы на необходимость уделить внимание православной церкви больше, чем это делалось до сих пор. Неедлы высказал положительное мнение по этому вопросу». В тот же день на обеде, устроенном чехословацким правительством в честь Карпова, «экзарх сказал, что необходимо стремиться к единству православных церквей в Чехословакии; что Православная церковь в Чехословакии и словом, и делом будет способствовать делу процветания Чехословацкой республик».[192]
Важную роль в руководстве экзархата играл член Епархиального управления Б.Л. Черкес, ранее бывший активным участником движения Сопротивления и одним из руководителей антинацистского восстания в Праге. Согласно записи Блинова от 15 июня, на обеде с Карповым Б.Л. Черкес предложил целую программу действий, в которой наряду с конкретными вопросами, требовавшими быстрого разрешения (предоставление новой квартиры и машины экзарху, определение ему жалованья, оказание Чехословацкой Православной Церкви материальной поддержки из Москвы и др.), были сформулированы задачи на перспективу: «5. Использовать компартию для повышения роли православной церкви, а также для разложения национальной чешской церкви, во главе которой стоят коммунисты, и перевода ее в православие. 6. Использовать недовольство униатов переходом к новому стилю для разложения униатской церкви и перевода ее в православие… 9. Структура на будущее: экзарх и при нем управление. Затем две епархии (но пока без епископов): Словацкая с центром в Братиславе и Моравская с центром в Оломоуце… 11. Министерство информации должно популяризировать Чехословацкую православную церковь – кино, печать, радио». Судя по комментариям в дневнике, программа Черкеса в основном не вызвала у Карпова возражений.[193]
17 июня Г.Г. Карпов и архиепископ Елевферий были приняты президентом Э. Бенешем. Обращаясь к экзарху, президент сказал: «Мы хотим, чтобы Вы были у нас экзарх не временный, а постоянный. Мы Вас поддержим, и Вы чувствуйте себя, как дома. Не стесняйтесь, и с чем нужно обращайтесь к проф. Неедлы». Визит дал основание для вывода о намерении чехословацкой стороны осуществить перевод греко-католиков в Православие, опираясь на опыт Западной Украины, но после решения униатской проблемы в Закарпатье и Румынии. В частности, Бенеш заявил: «Я думаю, что это очень скоро будет у нас, что первые присоединятся к православной церкви униаты. Там есть хорошие люди, хотя католики в Словакии очень злые (активные). Начинать надо в вашей Закарпатской Украине, затем – в Румынии, а потом уже у нас. Вы очень хорошо сделали, что во Львове униатов перевели в православие».[194] Председатель Совета по делам Русской православной церкви выразил свое принципиальное согласие, но высказался за постепенный переход чехословацких греко-католиков в Православие, так как резкое изменение их положения могло создать впечатление грубого государственного вмешательства.[195]
О результатах поездки Г.Г. Карпов 28 июня написал в докладной записке, которая была направлена в Совет Министров на имя И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.П. Берии и А.Н. Косыгина. В ее заключительной части Карпов отмечал: «По всем вопросам, касающимся православной церкви, мною даны необходимые советы и рекомендации советскому посольству в Праге с тем, чтобы имеющимися в его распоряжении возможностями способствовать росту и укреплению позиций православной церкви в Чехословакии».[196]
Вскоре после этой поездки – 20 июня 1946 г. архиепископ Елевферий выслал Патриарху Алексия проект устава Православной Церкви в Чехословацкой республике и доклад «О состоянии Православной Церкви в Чехословакии», в котором написал о первоочередных проблемах экзархата: необходимости материальной помощи ему из СССР, порядке награждения священнослужителей, упорядочении и изменении чина богослужения, выделении Словакии в особую епархию и др. В ответном письме от 2–4 августа Предстоятель высказал свои замечания по уставу и ответил на поднятые вопросы. Одна из затронутых Владыкой Елевферием проблем была разрешена на заседании Священного Синода от 5 августа 1946 г.: архиепископу дали право награждать священнослужителей его экзархата.[197]
Одним из последствий поездки Г.Г. Карпова стали тесные контакты ставшим вскоре управляющим делами экзархата Б.Л. Черкеса с Советом по делам Русской православной. Переписка, которую с советской стороны осуществлял Н.И. Блинов, несколько лет велась Черкесом через посольство СССР в Праге. Уже в первом письме от 17 июля 1946 г. он перечислял несколько способов укрепления Православия в стране. Так, указывая на важность контактов с Чехословацкой национальной (гуситской) Церковью, Черкес писал: «Чешский народ после пережитой войны и немецкого ига постепенно отходит от идеалов «Запада»… Народ переходит на линию «славянской» политики. Ввиду этого руководителям Чехословацкой церкви придется повернуть на восток, что они и пробуют делать, разговаривать с нами о возможности общений в культурном направлении. Необходимо с ними завязать как можно больший контакт, но в то же время искать среди священников, а через них и между мирянами, активных людей, готовых работать в пользу православия». Вторым важным направлением работы Черкес считал Старокатолическую Церковь: «Эта церковь незначительна по количеству священников и верующих, но нам во что бы то ни стало нужно всех перевести в православие. Примерно 6 месяцев тому назад к нам перешло уже около 250 людей. Начинаем работать по вербовке священников, а потом автоматически перейдут и верующие. О результатах сообщу».[198]
Однако наиболее активную деятельность предполагалось развить среди словацких греко-католиков. Для этого, судя по письму, при активном содействии советских дипломатов был разработан конкретный план. «Мы с помощью И.Ф. Потоцкого [атташе посольства СССР], без которого действительно ничего бы не вышло, собираемся поступать так: наш благочинный немедленно же переселяется в Прешов и начинает работу между священниками-униатами. Организует инициативную группу священников, потом съезд, после которого делегаты явятся к экзарху, а потом в Москву».[199]
25 сентября 1946 г. во втором письме Черкес сообщил в Москву о поездке архиепископа Елевферия в Словакию: «…были посещены все приходы, и новые приходы созданы под носом униатов… Были созданы базы, положен крепкий фундамент для дальнейшей работы. Поездка показала, какие методы нужно применять для борьбы с униатами. Работы там много, но результаты могут быть там скорее, чем здесь». При этом Черкес поставил вопрос о создании «блока антиватиканских церквей» в стране и в связи с этим прозондировал почву в руководстве Чехословацкой Церкви о слиянии с Православной Церковью, однако понимания у ее руководства не встретил.[200] В третьем письме от 20 мая 1947 г. Черкес сообщал о планах чехословацкого правительства привлечь греко-католического епископа Павла Гойдича к судебной ответственности в связи с его «реакционной» политической деятельностью.[201]
Следует упомянуть, что не все православные чехи вошли в состав экзархата. Архиепископ Савватий (Врабец) после своего освобождения из концлагеря отправил Патриарху Алексию приветственное письмо, в котором выразил «ликование по поводу победы Славянства, Святого Православия и Господней правды над обманом и ложью». Во время встречи в октябре 1945 г. в Праге с Владыкой Фотием (Топиро), последний посоветовал архиепископу Савватию подать заявление о переходе в юрисдикцию Московского Патриархата, и архиепископ в ответ устно высказал желание совершить такой переход, «если ему будет гарантирована архиерейская кафедра в Чехословакии или в Советском Союзе».[202]
Такие гарантии Владыке Савватию предоставлены не были, и он еще несколько лет безрезультатно пытался действовать, как правящий архиепископ Константинопольской юрисдикции, а затем решил отойти от церковных дел. В одном из своих писем Константинопольскому Патриарху он просил отпустить его на покой и позволить провести остаток жизни на святой Афонской горе. Не получив разрешение чехословацкий властей на переезд в какой-либо из афонских монастырей, архиепископ остался жить в Праге.[203] В докладе приходского совета кафедрального собора свв. Кирилла и Мефодия начала 1948 г. отмечалось: «Архиепископ Савватий должен был смириться с действительностью и перестал, после бесполезных попыток, развивать какую бы то ни было внешнюю деятельность».[204]
Вскоре Владыка письменно выразил желание выйти из Константинопольской юрисдикции и войти в Московскою. 14 мая 1948 г. он направил соответствующие прошения в Стамбул (Патриарху Максиму) и в Москву. В частности, в письме архиепископа Патриарху Алексию говорилось: «Я пришел к твердому убеждению, что польза Святого Православия требует именно здесь особого единения, а поэтому позволяю себе, обращаясь со своим заявлением, просить оставить мое каноническое и иерархическое положение без ущерба. Я убежден, что Православная Церковь в Чехословакии, объединенная под Вашим водительством, будет пользоваться, при наименьшем, такими же свободами и преимуществами, как и при юрисдикции Царьградской. Верю, что многострадальный чешский народ, столь испытавший, найдет, наконец, место в дружной семье славянских православных народов и вместе со Святой Православной Русью сможет построить нерушимый вал против волн фашизма и германизма».[205]
В докладной записке Патриарху Алексию от 25 мая 1948 г. архиепископ Елевферий (Воронцов) отмечал, что в личной беседе с ним Владыка Савватий просил назначить его управляющим православными приходами в Венгрии, так как он прежде уже трудился в деле утверждения Православия в этой стране.[206] Однако эти просьбы удовлетворены не были. Поэтому архиепископ Савватий до конца жизни формально оставался в юрисдикции Константинопольского Патриархата, хотя и не имел реальной возможности поддерживать с ним связь. Владыка жил в Праге под пристальным наблюдением органов государственной безопасности, получая денежное пособие, как бывший узник Дахау. Богослужения он совершал в своей квартире, продолжая окормлять оставшихся верными ему духовных чад. Скончался архиепископ Савватий 14 ноября 1959 г. и был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.[207]
В 1946–1950 гг. в жизни Чехословацкой Православной Церкви произошло несколько событий, ставших причиной предоставления ей автокефалии. В 1946–1947 гг. в Чехословакию переехало из СССР более 30 тысяч православных волынских чехов, из которых 90 % исповедовали Православие. С ними прибыли пять православных священников, кроме того, были рукоположены четыре новых чешских священника. В 1947 г. по инициативе архиепископа Елевферия для переселенцев было открыто 16 новых приходов (их число достигло 47). Для богослужений в новых приходах использовались бывшие католические храмы, а также купленные или взятые в аренду помещения.[208]
Под руководством Владыки был разработан устав для Прешовской епархии в составе экзархата. 26 апреля 1947 г. в Прешове общее собрание духовенства и выборных от мирян единогласно утвердило этот устав и сформировало органы епархиального управления (церковный, просветительный и хозяйственный отделы, церковный суд). 5 июля Владыка освятил после капитального ремонта кафедральный собор святых Кирилла и Мефодия в Праге, а 28 октября 1947 г. на стене собора была открыта мемориальная доска в память епископа Горазда и чешских парашютистов. В том же году была утверждена должность военного священника для окормления православных командиров и солдат Чехословацкой армии, и на нее назначили священника Богимура Аксмана в чине капитана.[209]
Начали выходить периодические издания: «Сообщения и распоряжения православного экзархата Московской Патриархии в Чехословакии» (два раза в месяц) и ежемесячный журнал «Голос православия». В 1947 г. также были изданы молитвенники и церковные календари на чешском и русском языках, листок «Почему я православный» и три брошюры: архиепископа Елевферия «Положение Православной Церкви в СССР», В.Г. Грузина «Великий подвиг малой Церкви» и священника Гацара «Различие между Католической Церковью и Православной».[210]
В 1947 г. первый чехословацкий студент стал учиться в Ленинградских Духовных школах, 14 ноября 1948 г. в Карловых Варах была открыта Духовная семинария, переведенная согласно решению Епархиального совета Чешской епархии от 5 августа 1949 г. в Прагу (к концу года в ней имелось 36 учащихся) и преобразованная затем в православный богословский факультет.[211] Духовником семинарии был назначен игумен Андрей (Коломацкий), возведенный в 1950 г. в сан архимандрита. В 1946–1948 гг. о. Андрей построил храм-памятник русским и чешским воинам, павшим в Отечественную войну, во имя святых Кирилла и Мефодия в г. Кромержиже, – седьмую и последнюю церковь из возведенных им в Моравии (освященную 4 июля 1948 г.). К маю 1949 г. в состав экзархата уже входило 111 приходов и 113 храмов, из них 42 вновь построенных, которые обслуживали 58 священников. Число верующих превысило 70 тысяч человек, в числе которых были 1753 перешедших в Православие в 1948 г. католиков и греко-католиков.[212]
Всей этой активной церковной деятельностью достаточно успешно руководил Владыка Елевферий. Он являлся хорошим проповедником, умным и тонким политиком и дипломатом, умевшим пробуждать симпатии к Православию у представителей других конфессий, в том числе греко-католиков, и пользоваться доверием среди чехословацких государственных деятелей. Еще конце 1946 г. Владыка направил Патриарху Алексию I доклад о положении церковных дел в Чехословакии, в котором говорилось о существенном расширении сети православных приходов в стране. Доклад был заслушан на заседании Священного Синода от 24 декабря.[213]
Однако на служении экзарха негативно сказывалась острая нехватка денежных средств. В связи с этим Патриарх еще в 1946 г. обратился в Совет по делам Русской православной церкви с просьбой о систематическом финансировании экзархата в сумме 7 тыс. инвалютных рублей на содержание Владыки Елевферия и его секретаря и 15 тыс. инвалютных рублей на издательскую и миссионерскую работу с покрытием этих средств Московской Патриархией. В начале марта 1947 г. экзарх прислал Патриарху Алексию письмо с просьбой ускорить высылку валюты, и Предстоятель вновь обратился в Совет, попросив дополнительно выделить 200 тыс. чехословацких крон на покрытие расходов, связанных с приобретением архиепископом в Праге особняка и автомобиля.[214]
2 апреля 1947 г. Г.Г. Карпов доложил в Совет Министров СССР о затруднительном материальном положении экзархата, пояснив, что перед ним стоят важные задачи: «Укрепление православной церкви в Чехословакии в противовес католицизму, объединение с православной церковью униатов, а также установление дружеских отношений с Чешской национальной церковью и другими религиозными объединениями в Чехословакии, которые могли бы оказаться полезными в борьбе против католической церкви».[215]
Дальнейшая переписка Патриарха Алексия I с Советом по делам Русской православной церкви свидетельствует, что денежная поддержка экзархата со стороны советского правительства началась вскоре после этого доклада Г.Г. Карпова. Так весной 1949 г. митрополит Елевферий сетовал в письме к Патриарху, что содержание его экзархата уменьшилось в начале года на 47 тыс. чехословацких крон из 150 тыс. бывших до этого ежемесячных дотаций. «Все это, – заключал экзарх, – заставляет просить Ваше Святейшество для успешного развития православного дела в нашем экзархате оставить пересылаемую нам сумму в том же номинальном размере, в каком была в 1947–1948 гг., т. е. 150 тыс. чехословацких крон».[216]
Патриарх поддержал просьбу митрополита и 24 мая 1949 г. написал Г.Г. Карпову: «Принимая во внимание нужды экзархата, прошу Совет исходатайствовать дополнительно к настоящему ассигнованию (103 тыс. чехословацких крон в месяц) – сумму в 564 тыс. крон (47 х 12 = 564 тыс.) до конца текущего года». Резолюция Карпова на этом письме (от 24 мая) также была положительной.[217]
Помимо финансовой помощи, Патриарх Алексий I старался решать и частные хозяйственные вопросы, как, например, поиск в Вене церковной литературы и типографских шрифтов русского монастыря преп. Иова Почаевского, вывезенных из Словакии в Австрию при эвакуации обители. В обращении к Г.Г. Карпову от 11 января 1947 г. Предстоятель писал: «Прилагая при сем в копии доклад архиепископа Елевферия, я полагал бы желательным поручить архиепископу Елевферию выяснить на месте в Вене положения книжного фонда и типографических шрифтов с представлением Патриархии своих соображений об использовании означенного имущества».[218]
Во второй половине 1947 г. в Совете по делам Русской православной церкви посчитали возможным укрепить позиции Православия в Чехословакии путем включения в нее Чехословацкой национальной Церкви. В письме Г.Г. Карпова заместителю министра иностранных дел Я.А. Малику от 26 ноября 1947 г. говорилось, что Совет «полагал бы целесообразным введение автокефалии Чешской православной церкви во главе с избранным на церковном соборе епископом, желательно чехом. Но учитывая, что православная церковь в Чехословакии является немногочисленной, необходимо провести соответствующую работу в целях объединения Чешской православной церкви и Чехословацкой национальной Церкви в единую православную церковь». Реализация этого замысла преследовала решение двуединой задачи. Московская Патриархия, готовя Совещание глав Поместных Православной Церквей, намеченное на июль 1948 г., была заинтересована в присутствии на нем автокефальной Чехословацкой Церкви. С другой стороны, считалось, что единая и окрепшая Православная Церковь могла бы претендовать на занятие «пошатнувшихся позиций униатов» и таким образом усилить свое влияние на население Словакии. Такая перспектива обсуждалась на встрече 19 мая 1947 г. Б.Л. Черкеса с экспертом по церковно-политическим вопросам Министерства информации В. Экартом.[219]
По запросу Карпова IV Европейский отдел МИД СССР 24 января 1948 г. представил в Совет заключение, в котором пояснялась позиция чехословацких властей относительно создания в стране единой Православной Церкви. Секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии Р. Сланский заявил, что он «исключает даже постановку вопроса об объединении православных церквей с Национальной чехословацкой церковью…, потому что для этого нет никакой базы и из этого ничего не выйдет». Допускалась только возможность кооперирования усилий этих Церквей «в вопросах отношения к славянам и различным прогрессивным мероприятиям, но не более». Позиция Сланского отражала понимание руководством страны сложности положения в Чехословацкой национальной Церкви, в которой наблюдались антиправославные настроения, и которая с 1920-х гг. эволюционировала в сторону протестантизма. Кроме того, чехословацкое руководство рассматривало возможность использования этой Церкви в борьбе с католицизмом. Могло повлиять на позицию правительства и устоявшееся представление о Православной Церкви как «эмигрантской» по составу.[220]
Чехословацкая Православная Церковь все-таки приняла участие в Московском совещании, хотя и в качестве экзархата. В марте 1948 г. архиепископ Елевферий присутствовал в Бухаресте на похоронах Румынского Патриарха Никодима (Мунтяну). При этом он провел успешные переговоры с представителями Румынской и Болгарской Церквей о перспективе их участия в Совещании глав и представителей автокефальных Православных Церквей в Москве. 9 марта Владыка изложил эти события в подробной докладной записке в Совет по делам Русской православной церкви.[221] 26 апреля 1948 г. экзарх был удостоен права ношения креста на клобуке.