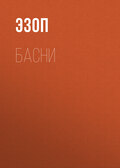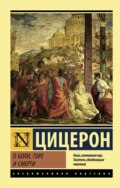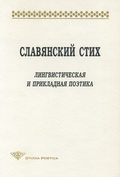М. Л. Гаспаров
Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Русская поэзия
Столь же сознательно использовал Щербина в своих античных идиллиях правильное чередование 6- и 5-ст. дактилей с женскими окончаниями: по-видимому, для него это был дериват элегического дистиха, чередования гексаметра с пентаметром («шестимерника» с «пятимерником», хотя античный пентаметр имел совсем другое строение – ср. далее, пример 20):
(10) Как-то привольней дышать мне под этим живительным небом,
Как-то мне лучше живется в тени деревенской:
Гаснут мечты честолюбья, тревожные сны улетают;
Мыслей о будущем нет, – настоящим я полон…
Близость к семантике гексаметра в 5-стопных стихах настолько отчетлива, что она не совсем теряется, даже если к отклонению по стопности добавить отклонение по анакрусе или рифмованности. Вот пример осложнения первого рода – белый 5-ст. амфибрахий, неоднократно использованный в античных переводах Мерзлякова и от его «Рыбаков» (из Феокрита) заимствованный Гнедичем в собственных «Рыбаках» (а от Гнедича сто лет спустя – Ю. Верховским в стихотворении «Гость»):
(11) Вот вечер, но сумрак за ним не слетает на землю;
Вот ночь, но светла синевою одетая дальность:
Без звезд и без месяца небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с златом востока…
Н. Гнедич. «Рыбаки»
(Конечно, для семантической окраски небезразлична и тематика текста: эпический Ам5 Гумилева «Когда зарыдала страна под немилостью божьей…» кажется ближе к гексаметру, чем лирический Ам5 Блока «Ну что же? Устало заломлены слабые руки…».)
Вот пример осложнения второго рода – 5-ст. дактиль рифмованный:
(12) Горними тихо летела душа небесами,
Грустные долу она опускала ресницы;
Слезы, в пространство от них упадая звездами,
Светлой и длинной вилися за ней вереницей…
А. К. Толстой. «Горними тихо летела…»
Сравнивая эти два примера, можно, пожалуй, уловить, что первый больше «похож на гексаметр», чем второй. Отчего это ощущение возникает, мы попробуем выяснить в дальнейшем. Попробуем, однако, сделать еще один шаг от исходной нормы: взять не 5-ст., а 4-ст. нерифмованный дактиль. Впечатление «гексаметричности» резко ослабевает:
(13) Белая ночь; небеса, словно дымка,
Странно прозрачны и странно туманны.
Город уснул; прикурнувши к сиденью,
Дремлет извозчик. Родимое поле
Снится ему. Озаренная солнцем,
Тихо колышется рожь золотая…
К. Льдов. «Из петербургского альбома»
Эта разновидность размера малоупотребительна – едва ли не из‐за этой самой неотчетливости своих семантических ассоциаций. Кроме приведенного примера (с несомненной реминисценцией из Гнедича), можно назвать еще «Все ты уносишь, нещадное время…» Жадовской и двустишия «Пó небу Тучи громóвые ходят…» Дельвига; ср. также с допущением мужских окончаний – по образцу белого 5-ст. ямба – «Сказки» Щербины: «Скучно мне было за сказками няни: Сказки те были все только о людях, То о разбойниках, то о колдуньях. Что-то влекло меня в темную рощу Слушать, как шепчется что-то в ветвях…». Все эти образцы нимало на гексаметр не ориентированы.
Если, как на прошлом этапе, осложнить отклонение по стопности отклонением по анакрусе или по рифмованности, то, по-видимому, последние остатки гексаметрической семантики исчезнут. Вот пример белого 4-ст. амфибрахия (ср. пример 11):
(14) Гранитная лестница вьется удавом.
Нет счета ступенькам… Церковный привратник
Ведет меня к небу, как некогда Данте
Вела Беатриче. Я весь – ожиданье…
К. Льдов. «На Исаакиевском соборе»
Вот пример рифмованного 4-ст. дактиля (ср. пример 12):
(15) Молча сижу под окошком темницы;
Синее небо отсюда мне видно:
В небе играют свободные птицы;
Глядя на них, мне и больно и стыдно…
М. Лермонтов. «Пленный рыцарь»
Семантические ассоциации и первого, и второго образца явно указывают не на античность, а на средневековье; причем опять этот «отрыв от гексаметра», пожалуй, ощутимее во втором, чем в первом. Как бы то ни было, можно с достаточной уверенностью констатировать: порог ощущения сходства с гексаметром по признаку (С) лежит между 5-ю и 4‐мя стопами – 5-стопные дериваты входят в семантический ореол гексаметра, 4-стопные – нет.
3. Анакруса. По признаку анакрусы (А) нормой гексаметра является ноль – начало с ударного слога. Отступление от этой нормы на 1 слог дает «амфибрахическое», на 2 слога – «анапестическое» начало стиха. Разница между этими двумя степенями отклонения почти неощутима: оба, несомненно, находятся в пределах семантического ореола гексаметра. Вот образцы белого 6-иктного дольника с амфибрахической анакрусой и затем 6-ст. амфибрахия и анапеста:
(16) Державин умер! чуть факел погасший дымится, о Пушкин!
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают!
Их кудри упали развитые в беспорядке на груди,
Их персты по лирам не движутся, голос в устах исчезает!
А. Дельвиг. «На смерть Державина»
(17) Я верую в мощного Зевса, держащего выси вселенной;
Державную Геру, чьей волей обеты семейные святы;
Властителя вод Посидона, мутящего глуби трезубцем;
Владыку подземного царства, судью неподкупного Гада…
В. Брюсов. «Гимн богам»
(18) На престоле из кости слоновой воссел Олимпиец в величьи,
И копье золотое в деснице он держит, а в шуйце – перуны;
Чистый мрамор чела облекают венцом осененные кудри;
У подножия бога орел опускает широкие крылья…
Л. Мей. «Видение»
Образец белого 5-ст. амфибрахия уже приводился – «Рыбаки» Гнедича (11); образцом белого 5-ст. анапеста (с нарушениями, как в 4‐м стихе) может служить стихотворение Майкова (1859):
(19) Здесь весна, как художник уж славный, работает тихо.
От цветов до других по неделе проходит и боле.
Словно кончит картину и публике даст наглядеться,
Да и публика знает маэстро и уж много о нем не толкует:
Репутация сделана, бюст уж его в Пантеоне…
Заметим, однако, что если для нас разница в степени «гексаметричности» между этими амфибрахиями и анапестами ничтожна, то для первых современников, может быть, это было и не так: мы знаем, что амфибрахические дериваты гексаметра в русской поэзии разрабатывались очень активно (и у Мерзлякова почти вытесняли собственно гексаметр), анапестические же – ничтожно мало (даже В. Пяст, приводя цитированный пример из Мея, неожиданно замечает: «В этом размере с сплошь женскими рифмами (!) есть что-то неприятное: какое-то „издевательство над гексаметром“»[81]). Может быть, антитеза восходящего-нисходящего зачина, сформулированная Ломоносовым, противопоставляла именно дактиль и анапест (как хорей и ямб), а амфибрахий был промежуточен, недостаточно антитетичен и поэтому терпим? Как бы то ни было, мы отмечаем: по признаку (А) заметного порога на границе гексаметрического ореола не наблюдается. Очевидно, это признак менее существенный, чем рассмотренные выше.
4. Окончания. По признаку окончания (О) нормой гексаметра является 1 слог – женское окончание. Отступлений «вверх», по-видимому, нет: гексаметр с дактилическими нерифмованными окончаниями не обнаружен даже в экспериментах. (Дактилические рифмованные в чередовании с женскими рифмованными встречаются у Мея в переводе из Феокрита, «Близнецы»: «Славлю рожденных от Леды и Дня, козою вскормленного, Кастора и Полиника, на гибельный бой ополченного, Неотразимого в ярости, неодолимого в брани, Если бычачьим ремнем оплетал он могучие длани…».) Отступления «вниз» возможны: нулевые, мужские окончания в дериватах гексаметра встречаются. При этом если они чередуются с женскими, то возникает впечатление, что перед нами не «дериват гексаметра», а «дериват элегического дистиха», потерявшего только характерный серединный стык иктов в четных стихах:
(20) Здравия полный фиал Игея сокрыла в тумане,
Резвый Эрот и Хариты с тоскою бегут от тебя;
Бледная тихо болезнь на ложе твое наклонилась,
Сон сменяется стоном, моленьем друзей тишина…
А. Дельвиг. «К к<н>. Г<орчакову>»
Примеров сплошных мужских окончаний в 6-ст. дактиле мы не нашли; примером их в 5-ст. дактиле могут служить, во-первых, «Брингильда» Майкова (с «Примечанием для чтения вслух»: «Бога ради, читая вслух, не скандуйте стихов… читайте, как прозу, но выразительно, где требуется…»):
(21) Входит Брингильда в чертог, дверь наотмашь раскрыв.
Шуба соболья и волосы в снежной пыли.
Холод за нею в широкие двери пахнул.
В стороны с факела пламя метнулось, взвилось…;
во-вторых, «Приазовье» Тарковского:
(22) На полустанок я вышел. Чугун отдыхал
В крупных шарах маслянистого пара. Он был
Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей.
Степь отворилась, и в степь, как воронкой ветров,
Душу втянуло мою…
Метрически эти два отрывка тождественны; но из‐за разницы синтаксического строя и, конечно, из‐за разницы тематики второй гораздо меньше «напоминает гексаметр», чем первый. Это значит, что мы находимся на самой периферии семантического ореола гексаметра и ощущение его уже готово утратиться.
Сравним еще два примера однородных и разнородных окончаний – шагом дальше, в 5-ст. амфибрахии и анапесте (из «Простонародных песен нынешних греков» Гнедича):
(23) Садилося солнце, а Дим свой завет говорил:
«Подите вы, дети, на ужин пора за водой;
А ты, мой племянник, садися, Ламбракис, ко мне:
Тебе моя сбруя, оденься и будь капитан…»
(24) Под зелеными елями ужинать сел Скиллодим,
И вино наливать при себе посадил он Ирену.
«Наливай мне, красавица, пить наливай до утра,
До восхода денницы, как ты, полонянка, румяной…»
Представляется, что первый из этих отрывков звучит «гексаметричнее» или по крайней мере «эпичнее», чем второй. По-видимому, причина этого – как и в предыдущем сопоставлении – в том, что белый стих с однородными окончаниями нестрофичен, а с разнородными – строфичен: это и отдаляет его от нестрофического гексаметра. Таким образом, важнее оказывается не качество, а отношение, не сохранение женских окончаний среди мужских, а единообразие окончаний, хотя бы только мужских.
Если окончания разнородны, но нестрофичны, непредсказуемы, то «гексаметричность», «эпичность», как кажется, сохраняется. Пример – из «Соляного бунта» П. Васильева (где этому впечатлению не мешает даже укороченность 3‐го стиха):
(24а) На буграх прииртышских поджарые кони паслись
Этих лыцарей с Яика, этих малиновых шапок,
Этих сабель свирепых и длинных пищалей;
И в Тоболе остались широкие крылья знамен,
Обгоревшие крылья, которыми битва махала…
Порог ощутимости гексаметрического ореола по признаку (О), стало быть, отчетлив: он состоит в нарушении однородности окончаний, хотя бы малом. По-видимому, этот признак существеннее, чем ранее рассмотренный признак (А).
5. Рифма. Последний признак гексаметра – рифмовка (Р). Нормой гексаметра является отсутствие рифмы. Рифмованные гексаметры разного рода существовали в латинском средневековье («леонинские стихи»), но потом вышли из употребления и остались известны лишь немногим филологам. Появление рифмы (хотя бы и минимально деформирующей стих – сплошной женской) дает тот же эффект, что и появление неоднородных окончаний (хотя бы и нерифмованных): оно разнообразит стих, вносит в него строфичность. Вот примеры:
(25) Внук Тредьяковского Клит гексаметром басенки пишет,
Противу ямба, хорея ужасною злобою дышит:
Мера простая сия все портит, по мнению Клита,
Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита…
А. Пушкин. «Несчастие Клита»
(26) Муза в измятом венке, богиня, забытая миром!
Я один из немногих, кто верен прежним кумирам;
В храме оставленном есть несказанная прелесть – и ныне
Я приношу фимиам к алтарю забытой святыни…
В. Брюсов. Вступление к поэме «Атлантида»
(27) Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая, —
Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая…
А. Апухтин. «Мухи»
В первом примере установка на гексаметр задана прямо. Во втором – подсказана античным стилем; Брюсов сам писал (к В. Фриче, июнь – июль 1895 года), как он искал размер новый, но заведомо напоминающий об эпосе. В третьем она не подсказана ничем, и обычно эти стихи воспринимаются вне всяких гексаметрических ассоциаций (ср. аналогичное сопоставление примеров 21 и 22). Таким образом, мы и здесь находимся на самой периферии семантического ореола гексаметра. Особенно это видно, если ввести в рифмованный гексаметр постоянное цезурное усечение: в стихах Ап. Коринфского вряд ли можно расслышать гексаметр, скорее – подобие длинных строк Бальмонта и Северянина:
(28) Песен моих не читайте, мирные дети покоя,
Если вас жизнь не коснулась грубой и грязной рукою,
Если дорогою пыльной в белой одежде идете,
Если в душе вы алмазы, лилии в сердце несете…
Разумеется, еще чаще, чем гексаметры, напрашивались на рифмовку элегические дистихи с их чередующимися окончаниями:
(29) Скрыв под рудой самоцветной, под йодистой влагой хрустальной
От утомленных стихий ярость их древней борьбы,
Ткут неподвижные Парки, владычицы тьмы безначальной,
Людям, титанам, богам – ткань непреложной судьбы…
М. Зенкевич. «Нити Парок»
Сделаем еще сопоставление – в более отдаленном деривате гексаметра, 5-ст. дактиле: стихи с парной, перекрестной и охватной рифмовкой:
(30) Нет уж, не ведать мне, братцы, ни сна, ни покою!
С жизнью бороться приходится, с бабой-ягою.
Старая крепко меня за бока ухватила,
Сломится, так и гляжу, молодецкая сила…
А. К. Толстой. «Нет уж, не ведать мне…»
(31) Горними тихо летела душа небесами…
А. К. Толстой, см. выше (12)
(32) Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне,
Травы степные унизаны влагой вечерней,
Речи отрывистей, сердце опять суеверней,
Длинные тени вдали потонули в ложбине…
А. Фет. «Месяц зеркальный…»
От парной к охватной рифмовке ощутимость рифмы становится все больше (или все меньше? Здесь возможны различные индивидуальные восприятия); не замечаем ли мы, что ассоциации с гексаметром от этого становятся соответственно все слабее (или все сильнее?)? Было бы любопытно рассмотреть пример гексаметрического монорима – стихотворения, в котором все строки зарифмованы на одну рифму: здесь строфичность минимальна, и можно предполагать, что семантический ореол гексаметра будет здесь чувствоваться сильнее. Как приведенные примеры рифмованного гексаметра аналогичны в предыдущей группе примеров (на признак О) примерам с разнородными окончаниями, так монорим был бы аналогичен примерам с окончаниями однородными.
Порог ощутимости гексаметрического ореола по признаку (Р), стало быть, тот же, что и по признаку (О): нарушение однородности окончаний. Можно думать, что этот признак менее существен, чем (О), т. е., например, что 5-ст. дактиль с рифмованными женскими окончаниями (примеры 30–32) более «похож на гексаметр», чем 5-ст. дактиль с нерифмованными мужскими окончаниями (примеры 21–22). Но настаивать на этом было бы пока неосторожно.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать: для ощутимости семантического ореола гексаметра необходимо, чтобы дериват его сохранял:
во-первых, признак (И) – 2-сложный или преимущественно 2-сложный междуиктовый интервал как основную ритмическую характеристику гексаметра (а признаки С и А могут и отклоняться);
во-вторых, признаки (О) и (Р) – однородность окончаний и рифмовки как основную строфическую характеристику гексаметра (а тип окончаний, т. е. качественный аспект признака (О), может и отклоняться).
При этом, конечно, характеристика ритмическая важнее, чем строфическая: при нарушении однородности окончаний и рифмовки (примеры 5, 30–32) гексаметрические ассоциации еще возможны, при замене 2-сложного интервала 1-сложным (пример 3) они начисто исчезают.
6. Членение стиха. В дополнение к пяти рассмотренным признакам гексаметра, может быть, имело бы смысл рассмотреть и шестой признак – цезурное членение (Ц), и обследовать ряд дериватов, идущих от разбиения длинной строки гексаметра на короткие отрезки, часто с рифмой. Но здесь было бы труднее систематизировать отступления от исходной формы на 1, 2 и более шагов; поэтому ограничимся лишь перечнем некоторых примеров.
а) двучленный гексаметр с внутренней рифмой, но без графической двустишности:
(33) Лепет ручья, голубые цветы, расцветанье природы…
Кто же в полях: это он, это ты, ваши ясные годы…
В. Брюсов. «Воспоминание (симфония)», IV, 6;
двучленный гексаметр без внутренних рифм, но с графической двустишностью:
(34) Сад чародейных прохлад / Ароматами сладкими дышит,
Звонко смеется фонтан, / И серебряный ветер колышет…
Ф. Сологуб. «Сад чародейных прохлад…»;
двучленный гексаметр с внутренними рифмами и с графической двустишностью (целый сборник В. Шуфа «Гекзаметры»[82] с восторженным предисловием Н. Энгельгардта):
(35) Дышит томительно сад, / И деревья в цвету белоснежном,
Грезой обвеяны, спят. / Песня слышится в сумраке нежном…
б) трехчленный гексаметр без внутренних рифм и без графической разбивки (у Жуковского это параллель к примеру 2):
(36) Солнце сияет; море спокойно; к брегу с любовью
Воды теснятся. Что на душистой зелени бьется?..
В. Жуковский. «Ундина», гл. XI, первая песня;
трехчленный гексаметр с внутренними рифмами и без графической разбивки (леонинские versus triniti):
(37) Где, светлоокая, ты, одинокая, странствуешь ныне?
Зноем и холодом, жаждой и голодом в дикой пустыне…
В. Жуковский. «Наль и Дамаянти», VII, 1;
то же, в 5-стопном деривате, с разбивкой:
(38) Камень сугроба / От зимнего гроба / Отвален.
Чудом разлиты / Вокруг хризолиты / Проталин…
Л. Столица. «Пасхалия»;
в) элегический дистих, расчлененный в пропорциях японской танки (5, 7, 5, 7, 7 слогов): по немецкому образцу так писал Брюсов (1898):
(39) Как золотые / Дождя упадания – / Слезы немые, —
Будут в печальной судьбе / Слезы мои о тебе;
г) элегический дистих, расчлененный на обычные полустишия, но прорифмованные и с укороченной 4‐й строкой; схема рифмовки – аБ+ав+аБ+в (Г. Шенгели, из сборника «Гонг», 1916):
(39а) Цитры нежно звучат, / И медно гремят фанфары,
Звуков ласкающий яд / Мой опьяняет мозг.
В лунный иду я сад. / Пруд. На воде ненюфары
Ловят волны переплеск;
д) гексаметр, рассыпанный на свободный стих: таково либретто ненаписанной оперы А. Н. Серова «Ундина», слова которого «заимствованы из повести Жуковского»[83]:
(40) – Ундина, где ты? / Ундина! / – Труд бесполезный: ты
видишь, / Какая тьма здесь в лесу; / Куда мы пойдем? /
И кто угадает, / Где она спряталась? / – Будем, по
крайней мере, / Хоть кликать ее: / Ундина! / Где ты,
Ундина? / – Как хочешь, рыцарь, кричи – / Она не
откликнется нам; / А уж верно / Где-нибудь близко
сидит. / – Ундина! / – Уж это не в первый раз…
7. Периферийные формы. Оставив эту ветвь дериватов гексаметра, посмотрим, что мы найдем, если перешагнем обозначившуюся границу семантического ореола гексаметра и обследуем ближайшие к ней стиховые формы за ее пределами. По большей части это будут многостопные сложные размеры с различными окончаниями и рифмами. Среди них 6-5-ст. стихи образуют как бы промежуточную область между семантическим ореолом гексаметра и ореолами других традиций, а в 4-ст. стихах уже ничто не напоминает о гексаметре и часто уже ощущаются семантические ореолы других традиций. Материал здесь очень обширен и пестр; в современной русской поэзии длинные строки вообще становятся все употребительнее во всех метрах. Ограничимся лишь избранными примерами.
А. 6-5-стопные стихи:
6-ст. дактиль с античной тематикой (П. Порфиров, «Овидий»):
(41) В Томи, далеко, далеко, на береге Черного моря,
Изгнанный Августом гневным, томился великий певец.
Часто, скитаясь над бездной, прибою бурливому вторя,
Горько врагов проклинал он, печальный провидя конец…
6-ст. дактиль без античной тематики (К. Бальмонт, «Осень»):
(42) Белесоватое небо, слепое, и ветер тоскливый,
Шелесты листьев увядших, поблекших в мелькании дней,
Шорох листвы помертвевшей и трепет ее торопливый,
Полное скорби качание дальних высоких стеблей…
Если, однако, в этом 6-ст. дактиле сделать цезуру с усечением (по типу «Трубы в походе гремели, / крики по воздуху мчались» – ритмическая вариация, которую Карамзин рекомендовал для гексаметра как самую единообразную и легко воспринимаемую, но которую решительно избегали все позднейшие сочинители гексаметров, чтобы 6-иктная строка не разламывалась пополам), то гексаметрические ассоциации сразу ослабеют и стих будет восприниматься как 3+3-ст. дактиль:
(42а) Весело, весело сердцу! / Звонко, душа, освирелься!
Прогрохотал искрометно / и эластично экспресс.
Я загорелся восторгом! / Я загляделся на рельсы!
Дама в окне улыбалась, / дама смотрела на лес…
И. Северянин. «В пяти верстах по полотну»
6-ст. амфибрахий (Ю. Левитанский, «Что делать…»):
(43) Что делать, мой ангел, мы стали спокойней, мы стали смиренней.
За дымкой метели так мирно курится наш милый Парнас.
И вот наступает то странное время иных измерений,
Где прежние мерки уже не годятся – они не про нас…
6-ст. анапест с античной тематикой (А. Апухтин, «Богиня и певец»):
(44) Пел богиню влюбленный певец, и тоской его голос звучал…
Вняв той песне, богиня сошла, красотой лучезарной сияя…
И к божественно-юному телу певец в упоеньи припал,
Задыхаясь от счастья, лобзанием жгучим его покрывая…
6-ст. анапест без античной тематики (К. Бальмонт, «Пляска атомов»):
(45) Яйцевидные атомы мчатся. Пути их – орбиты спиральные.
В нашем видимом явственном мире незримая мчится Вселенная.
И спирали уходят в спирали, в незримости – солнца опальные,
Непостижные в малости земли, планетность пылинок бессменная…
5-ст. дактиль (В. Жуковский, «Рыцарь Роллон»):
(46) Был удалец и отважный разбойник Роллон.
С шайкой своей по дорогам разбойничал он.
Раз, запоздав, он в лесу на усталом коне
Ехал и видит: часовня стоит в стороне…
5-ст. амфибрахий:
(47) Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя,
И вот наконец докатился до Черного моря…
М. Лермонтов. «Дубовый листок…»;
(48) Вот белые дворники белые фартуки выстирали,
По белым веревкам развесили их во дворах,
И белые бороды в окна воскресные выставили,
Соседкам своим во спасенье, мальчишкам на страх…
Б. Окуджава. «Песенка о белых дворниках»;
5-ст. анапест:
(49) Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
О. Мандельштам. «Золотистого меда…»;
(50) Это было при нас. / Это с нами вошло в поговорку.
И уйдет. / И, однако, / За быстрою сменою лет,
Стерся след, / Словно год / Стал нулем меж девятки с пятеркой.
Стерся след, / Были нет, / От нее не осталось примет…
Б. Пастернак. «Девятьсот пятый год»
Или с другим сочетанием окончаний:
(50а) В нашем школьном саду, где шумела трава непримятая,
Где сплетали деревья теней разноцветные сетки,
Одиноко стояла забытая женская статуя
Над заросшим прудом у затянутой хмелем беседки…
Н. Рыленков. «Статуя»
Есть ли в этой веренице стихов гексаметрические реминисценции? Оставим судить об этом субъективному ритмическому чувству каждого читателя. Можно думать, что они исчезают не для всех и не совсем; даже о последнем примере Л. Озеров пишет[84]: «Пятистопный анапест, напоминающий гекзаметр древних эпических поэм, интонацией своей убедительно передает раскат и размах революции…».
Б. 4-стопные стихи. Ограничимся напоминанием лишь о дактилях разного вида:
(51) Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый Снегирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?..
Г. Державин. «Снегирь»;
(52) Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!
С розы на розу в весельи летай!
С нежного мирта в прозрачный источник
На изощренный свой образ взирай!..
Н. Карамзин (?). «Сильфида»;
(54) Молча сижу под окошком темницы…
М. Лермонтов. «Пленный рыцарь» (см. пример 15);
(55) В море царевич купает коня;
Слышит: Царевич! взгляни на меня!
Фыркает конь и ушами прядет,
Брызжет и плещет и дале плывет…
М. Лермонтов. «Морская царевна»
Мы чувствуем: здесь гексаметрические ассоциации окончательно утрачены, и мы вступаем в область иных. Попытаемся определить, откуда они исходят. Таких истоков для 4-ст. дактиля можно наметить три.
Во-первых, от античной же традиции: полустишия «Снегиря» (очень употребительные в XVIII веке в стихах о бренности всего земного: «Суетен будешь Ты, человек, Если забудешь Краткий свой век…» Сумарокова) назывались в поэтиках XVIII века (например, у А. Байбакова) «адонием» и восходят к одноименному античному стиху – уже не эпическому, а лирическому. Промежуточным звеном были, по-видимому, арии («силлабическим 6-сложником») из ранних итальянских опер.
Во-вторых, от французской романсной традиции: на такой мотив пелись некоторые французские романсы, писанные 10-сложником (тем, что чаще ощущался у нас как аналог 5-ст. ямба). Так, песня Н. Смирнова «Как мне не плакать! ах! как мне не рваться! Можно ли смерти себе не желать?..» имеет подзаголовок: «голос: Triste raison, j’abjure ton empire…»). Эта традиция додержалась по меньшей мере до стихов Батюшкова о «Зафне» и мандельштамовского их отголоска в «Батюшкове».
В-третьих, от германской балладной традиции: немецкий балладный стих по-русски звучал 4- и 3-ст. дольником, при силлабо-тоническом выравнивании он дал 4-ст. дактиль и 4-ст. анапест уже в «Громвале» Каменева; Жуковский сперва предпочитал выравнивать его в ямб («Двенадцать спящих дев»), с 1814–1818 годов – в 4-ст. амфибрахий («Мщение») и с 1831–1832 годов – в дактиль: 4-ст. в «Суде божием над епископом», 5-ст. в «Рыцаре Роллоне». Этот 4-ст. дактиль, несомненно, ощущался как расширение плацдарма, завоеванного балладной семантикой амфибрахиев, а этот 5-ст. дактиль – как ее наступление на дактилическую античную семантику.
Таковы семантические окраски трех областей, смежных с семантическим ореолом гексаметра: античной, романской, германской. Если пересечь их, то можно прийти и к семантике четвертой большой традиции – русского народного стиха; но сейчас для нас этот путь слишком далек. Подробнее об этих разносторонних истоках семантики русских размеров будет речь в заключительном разделе книги.