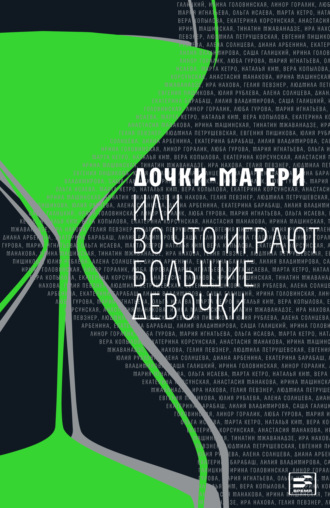
Людмила Петрушевская
Дочки-матери, или Во что играют большие девочки
Люба Гурова. Искусство разговора[4]
Мы знакомы пятьдесят лет.
Жили вместе двадцать.
Тридцать лет говорим по телефону, последние двадцать – каждый день.
Если меня спросят, что я делала 58 мая или 39 ноября любого года после девяностых, я скажу: говорила по телефону с мамой.
Это мало для профессии, основного занятия. Немало – для формирования навыка.
Вот если бы я так же часто и подолгу отжималась от пола или танцевала степ – то сейчас уже могла бы давать уроки? хотя бы в красном уголке при ЖЭКе?
Полчаса, каждый день, двадцать лет.
Таких стойких привычек у меня не так уж много. Иногда я забываю почистить зубы. Почти не пропускаю время пить чай.
И вот – звоню. Столько лет, каждый день.
За это время любой навык может быть доведен до совершенства.
Казалось бы! но нет.
Я звонила по телефону с диском. В аппарате была щель для монеты в одну марку. Одной марки надолго не хватало. Умельцы подвешивали монету на петлю из тонкой лески и не давали ей провалиться. Я не умела.
Звонила по телефону с диском и щелью для пластиковой карты на десять марок.
Звонила по кнопочному телефону в желтой будке. Потом будки стали цвета маджента. У меня появился свой телефонный аппарат, но звонки в Москву стоили дорого. Поговорить полчаса – неделю не обедать.
К концу века появились бумажные карточки с длинными кодовыми номерами. На карточке полоска, полоску стереть – под ней цифры. Цифры ввести перед набором номера. За десять марок – а потом и евро – можно было поговорить пару раз минут по десять. Прогресс.
Тогда же, кажется, московская телефонная станция расщепила Москву на районы с кодом 495 и 499.
Потом появился интернет, в интернете печатали номера для дешевого набора. Бумажные карты стали не нужны, стоимость дешевого звонка добавляли к телефонному счету.
Телефонные аппараты с витым шнуром начали исчезать. Появились беспроводные трубки, с которыми можно было ходить туда-сюда. Из моего окна был вид на берлинскую телебашню и рекламу на слепой стене большого дома. Там очень долго висела реклама самого первого айпода.
Уже разрушился мой первый собственный компьютер, работал первый собственный ноутбук. В нем был интернет, но еще не было скайпа. Разговоры продолжались по телефону.
Мама вышла на пенсию, заметив, что слабеет память. Я потеряла работу и, по-рыбьи глотая воздух, старалась отрастить жабры. Мама сказала: «Не пора ли вернуться домой?»
Этот невинный вопрос, показалось мне, зачеркнул, как ошибку, все пятнадцать лет в Берлине. Разговор закончился очень обыкновенно.
Через полгода я нашла работу в Москве.
Мама бывает права.
Какое-то количество разговоров кончается ссорой. Предмет ссоры всегда выветривается из памяти. Возможно, размолвок было меньше, когда платили монетой, картой или ПИН-кодом. Трудно ссориться, если разговор обрывается автоматом.
Чем лучше и доступнее телефонная связь – тем богаче узоры перебранок.
Я овладела этим мастерством. Я отточила навык.
Или нет. Я – сапер. Могу проползти по минному полю и не взорваться. Могу взорваться на двадцать седьмой минуте – а вы попробуйте!
Посмотрим на это дело именно так: бывает и такое, что мы не ссоримся – и это, знаете ли, моя работа. Вот за это мне давайте орден и медаль.
Короче, гордиться нечем. Но что знаю, расскажу.
Сначала – правила общей безопасности.
Звони в расцвете сил. Если не в форме – не звони. Не в том дело, что голос должен быть фальшиво бодрым, а в том дело, что если я устала и не держу удар, то какой-нибудь ловкий хук да пропущу и поезд сойдет с рельсов.
Записывайте, проверяйте: не звоните натощак, не звоните, если вы курильщик и не сможете спокойно покурить, не звоните, если болит голова. Не звоните после тяжелого дня, если вы весь день терпеливо отвечали на неприятные вопросы и ни разу не сорвались. Или сорвались, тем более не надо. У вас должны быть пуды терпения, чтобы хватило на двух верблюдов. Тогда звоните. А иначе – деньги на ветер.
Итак, звоним из хорошо проветренного помещения, после еды, выспавшись и погуляв, давление и пульс как у космонавта. Под рукой, наготове: стакан воды или другого благородного напитка. Хорошо бы чем-нибудь занять руки: спиннер, ручной эспандер, небольшая бесшумная в использовании настольная игра. Хорошо иметь карандаш благородного дерева, погрызть между делом вкусный «Кохинор».
Затем – контент-контроль.
Возьмем дела с высокой ставкой и высоким риском. Вы сильно вложились и боитесь потерять. (Пишете оперу! строите амбар! хотите выйти замуж!) Про такие вещи маме не говорите. У мамы радар на все, что может в вашей жизни пойти не так. Радар устроен интересно, мамина карта звездного неба с вашей ни в чем не совпадает, но на маминой карте много страшных зверей. Мама беспокоится. Если у вас все спокойно – мама найдет, о чем беспокоиться. Пусть это будет что-то, о чем вы сами точно не беспокоитесь. Если вы будете беспокоиться вместе, кто будет настолько спокоен, чтобы успокоить маму?
– Кстати, давно хотела спросить.
– Мм? (Я по интонации чувствую, что это будет то же, о чем говорили на прошлой неделе.)
– Вот ты говоришь – у тебя много работы.
– Мм.
– А как у вас сейчас там платят переводчикам?
Вообще, по-всякому; я понимаю, ты хочешь спросить: как с деньгами, вам хватает? Но ты не любишь спрашивать прямо, такая культура, надо с подходцем; тебе, наверное, опять рассказали по телевизору, как Запад загнивает; вообще-то я объясняла про свой бизнес, но ты не помнишь; устройство жизни после 1989-го плохо уложилось в голове, таковы последствия шока; сейчас 2020-й; я долго выстраивала свою схему, она прочная, но тонкая; в любой момент все может рухнуть, и всему конец; зависит от множества вещей, и я боюсь, конечно, постоянно; мне есть чего бояться; но я вырулю – всегда выруливала, это медицинский факт; вот и сейчас я вижу месяца на два вперед, а дальше черт знает; на эту местность уж нету карты, иду вперед по абрису; это твоя песенка, мама, твои байдарки; но так я говорить не буду; я, мама, в хороший день отвечу так:
– Да нормально платят. Нам хватает. Работа есть. Ты же видишь – я много работаю.
И переведу разговор на музыку и цветы.
В не самый хороший день я скажу:
– А ты в какой связи интересуешься?
(Эх, не то, не то.)
– Ну а что, я не могу спросить? Ни ты, ни твой брат ничего мне не рассказываете. Я тебе уже все свои новости доложила. До мельчайших подробностей! Но от тебя ни слова не добьешься.
Если хватит ума, скажу:
– Да знаешь, все в порядке. Все нормально, нам хватает.
Она тогда еще немножко скатится под горку:
– Ну и что, так трудно? Разве трудно так сразу и сказать?
И я, не уняв сварливости, добавлю:
– Я так и говорю. Нетрудно. Ты спросила – я сказала.
И обе надуемся в досаде. В многолетней рассаде досады.
После такого поворота бывает трудно вывести разговор в нейтральные воды. Ну ничего, прощаемся до завтра.
Не стоит жаловаться на здоровье. Если говорите по скайпу – не щурьтесь и не трите лоб.
– Что ты щуришься?
Глаза устали.
– И давно это у тебя?
Ну как. Бывает.
– Но ты проверяешься?
Конечно. Проверяюсь.
– Ну а когда последний раз?
Ну что, есть чем крыть? А мне как раз есть! Я как раз была недавно! Мне дали новые красивые очки! Мы даже несколько раз уже об этом говорили. Но недавние события укладываются в непредсказуемом порядке; к этому можно привыкнуть.
– Я, мама, была у оптика. Мне дали очки. Очень удобно. Оправа легкая, на нос не давит.
– А, ну ладно. А то мне кто-то говорил, что есть такие специальные, ну как это… Ты знаешь. Японская разработка. Помнишь, я была еще тогда у тебя в Берлине, ты жаловалась, что устают глаза. Такие тренировочные очки.
Я помню, был такой разговор году в девяносто седьмом. Что-то такое продавалось в подземном переходе у метро, и была навязчивая реклама, что можно натренировать глаза против мерцания мониторов. Я все это зачем-то помню, но куда бы нам отсюда отрулить, чтобы никого не обидеть?
В хороший день я говорю:
– Мамуля, у меня хорошие очки. Безопасные. Мониторы теперь стали лучше. Да и вообще, я не так уж устаю.
И мама переключается на то, как была у меня в Берлине и какой там был рядом с домом розарий. Правда был! Это typisch мама: в самом, казалось бы, жутком месте хардкорного Берлина оказался розарий. Без мамы он бы в мое сознание не проник, но он был. Вообще в Берлине много цветов, это очень весомо. Не знаю, что она думала о моей жизни там, но мне кажется, что, кроме цветов, она не находила в моем выборе понятных преимуществ. Я никогда не слышала от нее слов на эту тему; приезжая ко мне в гости, она впадала в особый сорт беспокойства и не получала заметного удовольствия от пребывания в этом малознакомом городе. Впрочем, мы слишком разные люди, и я плохо понимаю ее чувства. Я только ощущаю все вибрации.
Разговор о цветах вообще полезен, он у меня в первой тройке надежных тем. Но и в этом саду есть неверные тропинки, с коих, однако, не свернешь.
Вот я, бывает, запеваю:
– Знаешь, мама, я сегодня гуляла – сирень цветет! И белая, и розовая, и лиловая – а запах!
– Что ты говоришь, неужели? Так рано? У нас еще заморозки!
– Но ведь в Германии всегда теплее. Все раньше месяца на полтора. У нашей соседки, фрау Кампе, огромный куст весь осыпан лиловыми гроздьями. (Это я у мамы училась, но у нее получается лучше. Мамины описания природы – совсем Аксаков. Однако моя задача – держать мысль.)
– Да… это верно… у вас теплее. Никогда не забуду, как приехала к тебе в Берлин в марте. Уезжала из Москвы в метель, а у тебя перед окном – крокусы! Сколько я ни старалась, сколько ни сажала крокусов, таскала с дачи, выпрашивала у соседей – ничего у меня под балконом не выросло. И зачем я только билась столько лет. То ли почва не та. А может, сторона северная.
– Но, мама, ведь у тебя тоже куст сирени. Скоро зацветет!
– Сирени? Наверное… Чего я только не придумывала! Снег сойдет – и ничегошеньки не видно. Вот Лидия Федоровна – такая молодец. Если бы ты видела: такой цветник!
(Я видела, разумеется; люпины, георгины.)
– Но, мама, помнишь, тебе же грамоту давали за благоустройство. И даже, кажется, была в газете заметка. «Наш Северо-Запад».
Мама неуверенно отзывается. Она не помнит. Кусок земли под северным балконом, в самом деле бросовый и несчастный, закиданный отвалами, пропитанный реагентами, все-таки много лет процветал ее заботами. Были времена, когда, не дозвонившись, я знала, что она внизу, в компании привязанной на длинном поводке собаки, возится со своими десятью квадратными метрами ничейной земли или поливает свой цветник с балкона с помощью приделанного к крану в ванной шланга.
Балкон, понятное дело, был также ухожен, унавожен и блистал.
И были грамоты из управы и даже – видела сама – заметка в муниципальной газете.
Эти важные вещи начала нулевых стерлись из памяти, но осталось огорчение, что все труды напрасны… Со временем, я вижу, стирается весь нарратив, вся цепочка причин и обид. Но мысль садовая навсегда связана с идеей несправедливости мироустройства. Раньше это была целая сага, во много колен – от маминого отца, не разрешавшего ей сажать на даче сирень, через невестку, перекопавшую розы на клубнику, к соседке сверху, ревновавшей к успехам палисадника, к ремонтным рабочим, спилившим на ограде балкона железные балясины под цветочные горшки…
Впрочем, стоп. Это уже я. Это я не так давно, позвонив, застала маму в агрегатном состоянии «не брани меня, родная». Был капремонт, все как-то сумели с рабочими договориться, и только мама и ее сосед, ровесник и тоже балконный садовод, не посмели спорить – и остались с голыми железными балконами, без цветов. Она боялась, бедная, что я ее отругаю.
Как я впитала обиды маминой ботанической саги. Ничего, что она забыла все изгибы. Теперь их помню я.
Помню эту дорожку, эту борозду на пластинке, в которой всегда застревает игла.
Но и с этой дорожки мы научились уходить.
– Ну что, – говорю, – давай поплачем о нашей садовой судьбе. «Я садовником родился. Не на шутку рассердился».
Мама улавливает суть. Она смеется.
– Все цветы мне надоели, кроме!
Ах! Что с тобой? Влюблен! В кого?
Ах!
Екатерина Корсунская. Где ж девался тот цветочек, что долину украшал[5]
– Хочется петь, а петь не с кем. Поэтому я пою про себя. Я когда ложусь спать и нужно уснуть, начинаю свой, второй голос тянуть, а первый слышу, чтоб вступить.
Мы с мамой живем в одном городе, но сейчас карантин, мы не видимся и только два-три раза в день говорим по телефону и в Zoom… Маме девяносто два года.
– Всегда оно во мне звучало. Даже не могу тебе это объяснить. Шила, убирала, гладила, бывало, и грядки полю – и пою. Я и здесь-то, в Нью-Йорке, – на кухне готовила или гулять идем – все время голосила. Но ведь у меня мама такая же была. Помню, стоит умывается и поет. Вообще, у нас же мама, папа, Женя, Варя, ты и я, шесть человек, все пели. Да еще папа твой. Да Женины обе девочки и Вера – это десять, тетя Маруся и дядя Геша – двенадцать. Бывало, девятого августа на день рождения отца собирались все, готовили стол там нормальный, садились, и потом только-только по первой, по второй – и понеслась, начали петь, начали плясать. У двухэтажного дома народ высыпал и слушал, целая толпа всегда стояла – знаешь, двухэтажный, как идешь на край деревни, на Волхонку. И пока мы не переставали беситься, всё слушали. А слышно, в вечернем воздухе, знаешь, как слышно. Ой, какой там воздух был в Торбееве, боже мой! Я такого воздуха нигде не пробовала.
Торбеевский дом смотрел на широкий луг, посередине его росла старая ветла, и мимо нее шла тропа «в город» – мама родилась там, в Богородске, переименованном два года спустя в Ногинск. Главная улица деревни отворачивала от большой дороги к городу и заканчивалась у старого сада на Волхонке, внутри которого стоял усадебный дом князей Волконских.
– А ты помнишь, как дорожкой с Волхонки от ручья идешь вверх-вверх на холмик и там была сосна высоченная? Стояла одна, наверно, было ей лет двести, называли ее «сосна Ваньки Каина» – говорили, будто его повесили на ней. Песню ты знаешь? Мы с тобой ее пели. «В саду ягодка-малинка под закрытием росла, свет-княгиня молодая с князем в тереме жила – а у князя был слугою Ванька-ключник молодой (мама выпевает “клюшник”), Ванька-клюшник, злой разлушник, разлучил князя с женой! Князь дознался, догадался – как ты понимаешь, свои же донесли – посадил Ваньку в тюрьму. Ах вы слуги, мои слуги…» Ну, давай первый голос, давай!
Я вступаю:
– «…Слуги ве-ерные мои, вы подите приведите Ваньку-клюшника ко мне!»
Мама запевает снова:
– «Во-от ведут – давай! – ох и ведут Ваню-у-ушу на шелковом поясу! Ты скажи…» Ну, какого дьявола ты отстаешь-то?
– Это звук отстает в интернете, мам, это не я!
И продолжаем вместе:
– «…Ох и скажи, Ваню-у-уша, сколько лет с княги-иней жил?»
– «Это знает…» – запевает мама, и я подхватываю: «…князь, подушка да перина пухова».
– «Еще знает…» – запевает мама, и я подхватываю: «…князь, подружка, свет-княгиня молода».
– Ты сваливаешь на технику, – говорит мама, – а на самом деле ты или текст не знаешь, или чего-то. Да-да, моя птичка!
После революции в бывшем барском доме открыли школу – там в двадцатых годах моя бабушка на танцах встретила деда (игравшего в маленьком оркестре на мандолине вальс, польку и падеспань), в тридцатых училась мама, а в семидесятых жила летом я, ходила в строю по липовым аллеям и ненавидела танцы и пионерские лагеря.
Когда я думаю о женщинах нашей семьи, я представляю себе такую линию: бабуся, мама и я, три припаянные друг к другу фигурки, как в игре в настольное поло. На моей дочке линия спотыкается. Я и сейчас подробно вижу вросший в землю дом маминого детства, его печку, кровать с кружевным подзором и двумя высокими белыми подушками, ведро с водой из колодца, рукомойник и керосинку на кухне, слышу, с каким звуком залипала обитая ватой и дерматином дверь в сенях, помню, как кололся и пах лугом матрас, который дед набивал сеном, и вкус райских яблочек с дерева у крыльца – созревая, они становились почти прозрачными и косточки были видны на просвет. Моя дочка летом жила на даче под Нью-Йорком, смотрела, как по стриженой лужайке выходят к дому дикие индейки, в жару включала кондиционер, а торбеевский дом сгорел, и описать его нельзя.
– Во-первых, все в одной комнате, трое детей и двое родителей. Во-вторых, голод, холод и незнамо что. В пристройке невозможно было жить, кругом были дыры, все продувалось, да и у нас мы по два раза в день топили печку. И я от этого очень страдала… Старалась ни с кем не сдруживаться, ото всех шарахалась как черт от ладана. Ведь не то что не могла домой привести, а боялась показать свой дом, который стоял как полная развалюха, ты помнишь? Забыть нельзя.
Когда в шестидесятые годы мои родители получили квартиру в кирпичной хрущевке на Дмитровском шоссе, бабуся приехала на новоселье, оглядела единственную изолированную шестиметровую комнату, где стояла моя кроватка, и сказала: «Ребенок живет в раю». В этой квартире мама клеила обои, расставляла посуду в горке, шила занавески, вешала на стены эстампы и говорила, что не понимает, как все это может быть мне неинтересно.
Я думала: мне нечего написать о маме. Мама – это плацента, детское место, питание и дыхание. Но дыхание – это пение.
Мы всегда пели. Пение было главным нашим разговором. Остальное – мамина ежедневная забота: не слишком ли поздно вернусь, «пошла с мокрой головой!», «что ты себя измызгала, как тряпку половую, ты себя на помойке, что ли, нашла, и так ты загружена выше головы, нельзя так безоглядно!», и вопрос «хорошо ли ты одета?» всегда означал «тепло ли?». Она так беспокоилась за меня, что постепенно я перестала ей рассказывать, что со мной происходит, чтобы не волновать ее. Но когда мы пели, это был другой разговор. У мамы на стене висит фотография: я, двенадцатилетняя, сижу рядом с ней, пою и смотрю на нее, скосив глаза и открыв рот, с обожанием и восторгом, а она, в фартуке, поет с закрытыми глазами, с сосредоточенным лицом, глядящим внутрь себя.
Мама мне часто шила. Черно-золотой «Зингер» достался ей от свекрови, моей бабушки. Было скучно подолгу, не двигаясь, стоять на тоскливых примерках, пока она подкалывала подол булавками или наметывала белыми нитками швы. Она кроила из отрезов, которые ей удавалось по случаю схватить в магазинах, или перешивала из своего. Новую белую куртку с капюшоном я отдала подруге Ленке, у нее не было ничего на осень, – но мама тогда обиделась, рассердилась, заставила вернуть, правда, куртка, по ее словам, уже превратилась в тряпку. А в сшитом ею длинном пальто на ватине, которое запиралось, как дом, я прожила три холодные зимы в Костромской области. Но она расстроилась, когда приехала меня летом навестить и узнала, из чего сделан мягкий пуфик на балконе.
Переехав в Нью-Йорк, мама первое время тосковала без швейной машинки, но все же так и не купила ее тут – одежду стало легче найти в магазине, чем шить самой.
– Ты, конечно, не обижайся, но я тебе одну вещь скажу. Вот этот костюм спортивный, что ты купила мне, помнишь?
– Нет.
– Ну, черные брюки и куртка такая. Ты знаешь, там погончики эти – есть в них что-то грубое. Не знаю, не красит он меня совсем. Брюки я вообще не носила, а с куртки я, к сожалению, сняла эти погончики – но ты возьми у меня его и подаришь кому-нибудь. Или сама будешь носить?
– Нет, мам, я не буду.
– Ну отдашь. Но мне все равно нужен такой костюм – но только чтобы он был симпатичный. А то я надела эту куртку черную, посмотрела в зеркало… И еще мне нужна куртка джинсовая, как та, которую ты мне купила сто лет назад – я тебе уже давно говорю про это, ты забыла.
– Мам, я не забыла, я смотрела же!
– Ну да. Вот купи мне такую, но только, пожалуйста, симпатичную, чтобы мне шла, – такую, как ты умеешь купить, если думаешь об этом.
В мамином детстве в доме тоже была машинка «Зингер», ножная. Бабуся шила соседям и всегда что-то перешивала и лицевала двум дочкам и сыну. Даже при мне она еще садилась за нее и, в такт нажимая на ажурную ножную педаль, строчила и пела: «В маленькой светелке огонек горит, молодая пряха у окна сидит…»
– У бабуси в пении было особенное выражение лица. Она совсем забывала себя, когда пела.
– Да? Я не помню.
– А она была нежна с тобой?
– Ей было некогда.
Мама и ее младшая сестра Варя говорили мне, что их мать никогда детей не хвалила. Они жили бедно. Из зарплаты вычитали деньги на облигации – отец приносил зарплату домой, отдавал маме, а она наутро плакала. В войну он ушел на фронт, а ей приходилось часто уезжать за хлебом, за едой. Никогда не заставляла детей ничего делать, но они делали сами. Мама была старшая дочь, она проверяла, как младшая мыла пол: ходила босыми ногами и заставляла перемывать.
– У нас нравы в семье были простые, никто не наставлял ничему. Мама и папа, как тебе это выразить… у нас было много общего. Мама никогда ничего не советовала, она считала, что мы сами разберемся.
Мне странно это слышать. Моя мама советовала все время. В детстве я чувствовала себя совершенно счастливой, а взрослой начала составлять список обид, как будто постепенно осознавая их. Обиды выстраивались в ряд и тянули руки, кто первый: мама всегда знала, как надо; рейтузы чуть не до мая месяца, которые я сдирала с себя на лестничной клетке, а однажды даже на парадной лестнице Эрмитажа; она могла два дня подряд молчать, не разговаривая со мной от обиды, но я должна была извиниться, даже если не было моей вины, и всегда чувствовала себя виноватой. Отдельной строкой в этом списке стояла фраза моей маленькой дочери: «Бабуля, ну почему ты всегда должна говорить правду?»
– Вот я тут, между прочим, читала книжку об одном писателе и так несколько комплиментарно о себе подумала: ну точно я. Он не любил спорить, считал утомительным, но никогда не менял своего мнения, сдвинуть его было невозможно. Я тоже, водится за мной такое. Вообще, меня поражает, какие вещи ты мне говоришь иногда… Вот, например, это говорение правды. Ведь должен кто-то говорить правду в семье. Я всегда считала тебя умным, тонким человеком, ты просто не даешь себе труда задуматься.
Я больше похожа на папу, и в детстве мама говорила мне: «Как жалко, что у тебя не курносый носик!» – и приподнимала мне кончик носа пальцем. У меня на носу маленькая горбинка, и если рассмотреть мое лицо в три четверти, например, в зеркале примерочной, то будет видно, что кончик носа у меня чуть опущен вниз и выглядит, правда, неприятно. А мама на молодых фотографиях похожа на артистку тридцатых-сороковых годов – задорная, кудрявая, улыбчивая, красивая. Я быстро выросла, «телебашня на дому», как сказал тогда брат, но красивая женщина должна была быть маленькой, как мама. Я никогда не носила каблуков, даже когда уже решила, что я более-менее среднего роста.
И надо было доесть, чтобы выйти из-за стола. Я держала котлету за щекой, а мама сидела рядом и говорила: «Жуй! Жуй! Глотай!» Любовь была в том, чтобы накормить. Ей самой в детстве доставалось немного. Работал только мой дед, бабушка была лишенкой – лишена гражданских прав за принадлежность к эксплуататорскому классу: помогала своей матери, державшей в деревне колбасную лавку, – это мешало устроиться на работу. Потом дед ушел на фронт, оставив ее одну с тремя детьми, которым без конца хотелось есть. В девяносто два года мама помнит, какие сорта хлеба появились в магазине после конца войны: «ситный, горчичный, пеклеванный, ржаной, очень вкусные рижский и особенно бородинский, и белый: калачи, бублики, булочки французские за тридцать шесть и семьдесят две копейки, но это не знаю, когда мама и покупала – так, принюхивались; в булочной пахло – можно было в обморок упасть, после войны-то».
– Вот мне, знаешь, что пригрезилось – мне захотелось такой рыбки, типа наваги, как она называется, не вспомню, вот целиком ее жаришь, эту рыбочку, и у нее такой особенный вкус. И так мне захотелось этой рыбочки! А кстати! Вот у меня несколько дней лежат сливы, я сварю их, и в этот раз ты возьмешь – знаешь почему? Потому что я сделаю повидло и положу сахара всего полстакана на кило. Оно без воды варится и очень долго, надо стоять, чтоб не подгорало. Раньше бабушка в Москве варила, и я здесь, когда слива бывала по 75 копеек, ну то есть центов. Оно, когда сварится, очень вкусное, кисленькое такое. Я его не очень, а папа ел хорошо. Там сахару с гулькин нос, в розеточку положил да съел. Вчера я еще что-то стряпала… пожарила мясо с картошкой, изжога началась, таблетку взяла. Очень мне чего-то грустно… я чаще всего спокойно, а иногда чего-то поднавалит.
Мы никогда по-настоящему не ссорились – или я забыла, и поэтому мне кажется, что самая большая в нашей жизни ссора случилась не так давно. Мама просила ей срочно помочь, а я приехала через два с половиной часа, она с трудом дождалась меня.
Вот что я записала потом. Мама говорит, что я ее не знаю. «Удивительно». Она думала, что я могла бы ее узнать за эти годы, но нет. «Тогда и ты меня не знаешь», – говорю я. Она соглашается. Мне плевать на нее, говорит. Тут я говорю: «… твою мать!» И выскакиваю в соседнюю комнату. Я слышу, как нелепо звучат эти слова, когда я говорю их маме, поминая, получается, ее мать, мою нежную бабусю, которая за жизнь, наверно, никогда не выругалась матом.
После этого я помогала ей мыться. Она попросила помыть спину и ноги. Откуда у нее в Нью-Йорке такая мочалка? Мочалка из мочала, спутанный жгут, она мылит ее куском мыла из пластмассовой мыльницы. Кажется, ее купила Варя в Москве на рынке, после того как я не смогла найти настоящую мочалку, какую ей хотелось. Мама моется детским мылом, я вожу его из Москвы раз в год летом. Она моет мылом и голову: «В шампуне всего намешано». В ванне стоит стул с широким сиденьем, но для меня мама встает, чтобы я могла вымыть ее ноги. В этот день я остаюсь у нее ночевать, и вечером она произносит:
– Сейчас ты меня спокойно послушай.
Я отвечаю:
– Нет! Нет, давай просто совсем не будем об этом!
Мама говорит:
– Пожалуйста, больше никогда не говори мне таких слов. Я даже не знала, что ты так умеешь. Я думала, небо обвалится.
В конце разговора сказала: «Целую, моя родная». Она так не всегда говорит. Со своими без нежничанья, особенно с любимыми. Я не видела ее уже около трех месяцев из-за карантина, и мне немного страшно. Может быть, поэтому она так сказала?
– Вот я очень раньше любила «По Дону гуляет», ну-ка, запой!
Я запеваю.
– Нет, – говорит мама, – «До-ону», вверх же! Сейчас, подожди, я очень люблю там вступать… «О чем, дева, плачешь…» Ну, Катя! «О чем пла-ачешь…» Нет, ты неправильно. Ты чего-то сбиваешься. Давно не пела её?







