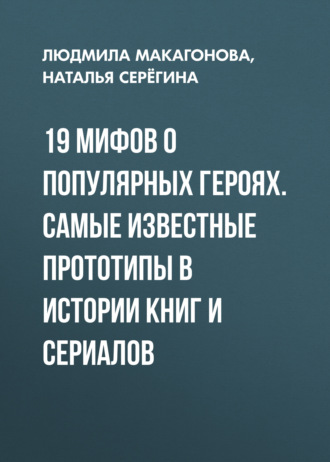
Людмила Макагонова
19 мифов о популярных героях. Самые известные прототипы в истории книг и сериалов
© Людмила Макагонова, Наталья Серёгина, текст, 2022
© Рене Магритт «Великая война», 1964, ADAGP/ УПРАВИС, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2021
«Хождение по мукам» сестер Крандиевских
Сестры Крандиевские Наталья и Надежда – Туся и Дюна по-домашнему – послужили прототипом сестер Кати и Даши в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам», за который писатель был удостоен Сталинской премии I степени. Сам Толстой признавал: «Катя – это все Наталья Васильевна». Если Даша – это жизнелюбие, то Катя – это жертвенность и страдание.
Наталья стала поэтом, а Надежда – известным советским скульптором, создавшим серию скульптур героев революции: Буденного, Чапаева, Фурманова. Она же создала скульптурный портрет своей подруги Марины Цветаевой и надгробный памятник Короленко, установленный в Полтаве. В семейной жизни Дюна была счастлива. Ее мужем был Петр Петрович Файдыш (1892–1943) – архитектор, скульптор, художник. Этот покладистый интеллигентный человек послужил Толстому прототипом Ивана Телегина. Первую мировую войну Петр Файдыш закончил с Георгиевским крестом и тяжким ранением в бедро… В советской России он рисовал костюмы к постановкам Художественного театра, а позже участвовал в проектировании Библиотеки имени Ленина и некоторых станций метро.
В Надежду Крандиевскую Файдыш влюбился с первого взгляда. Их первый ребенок, сын Миша, умер от пневмонии. Потом родились дочь Наталья и сын Андрей. В 1941 году Петр Петрович попал в плен к немцам, что ему припомнили, когда арестовали в 1943-м. Больше мужа Надежда не видела. Дети талантливых родителей тоже были талантливы. Работы Натальи Петровны Навашиной-Крандиевской украшают залы Третьяковки. Андрей Петрович был скульптором-монументалистом, членкором Академии художеств.
Такова вкратце биография Дюны – прототипа Даши. Весь последующий рассказ посвящен Наталье Крандиевской – прототипу Кати, жизнь которой сложилась трудно, но она выстояла и победила. В 1922 году Толстой рассказывал Наталье Васильевне, что «серьезно озабочен дальнейшей судьбою сестер. Одну (это Дашу) надо провести благополучно через всю трилогию, другая (это Катя) должна окончить трагически. Но ему по-человечески жаль губить Катю».
Наталья Крандиевская родилась в 1888 году в литературной семье. Мать ее была писательницей, а отец – редактором и издателем московского литературного альманаха, их гостеприимный дом всегда был полон известными писателями и поэтами того времени. В этой семье было трое детей: старший сын Всеволод (Сева) умер от менингита в 21 год, наша героиня – Наташа, или Туся по-домашнему, и младшая Надежда – Дюна, будущий скульптор. Про свое детство Туся написала в воспоминаниях так: «Стихи я начала писать лет с семи. Сейчас мне кажется, что родители мои, оба влюбленные в словесность всякого рода, поощряли детскую графоманию более чем следовало.
Вспоминаю обычное нытье:
– Мама, мне скучно.
– Займись чем-нибудь.
– Чем?
– Ну сядь попиши стишки».
Горький был другом этой семьи, знал Наташу с детства и величал «премудрая и милая Туся». Он и подарил девочке книжечку стихов Бунина «Листопад» с надписью: «Вот как писать надо!» С детства Туся замечательно играла на фортепиано, успешно училась рисованию и живописи, но делом всей жизни стали стихи. В тринадцать лет она уже печаталась в московских журналах. В пятнадцать лет талант Наташи оценил Бунин, уже в эмиграции с теплотой вспоминавший о ее стихах. «Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов». Кроме Бунина, ею восхищались Бальмонт и Блок. Про свои стихи сама Крандиевская скажет так:
Судьба различна у стихов.
Мои обнажены до дрожи
Они – как жалоба, как зов,
Они – как родинка на коже.
Но кто-то губы освежит
Моей неутоленной жаждой,
Пока живая жизнь дрожит,
Распята в этой строчке каждой[12].
В девятнадцать лет Наташа вышла замуж, но не по любви и вопреки своей романтической натуре. Муж – преуспевающий адвокат Федор Акимович Волькенштейн, приятель Александра Керенского, – хотя и был глубоко порядочным человеком, но так и остался для Натальи чужим. Через год Туся родила ему сына Федора, в будущем известного физика Федора Волькенштейна. Про свой первый брак Крандиевская напишет: «Я не была счастлива с первым мужем. На личной жизни был поставлен крест, как пишется в плохих романах»[11]. Скучающая молодая женщина продолжала писать стихи и посещать школу живописи и рисования Званцевой. Мужу не нравилось ее хождение по литературным вечерам, которое и привело к хождению по мукам вместе с графом Алексеем Толстым.
Этот роман развивался неспешно. За год до ее замужества Крандиевской показали стихи Толстого в декадентском стиле про горбуна и башню, и она сказала, что с такой фамилией стихи можно бы писать и получше. В тот же год Туся впервые увидела его в ресторане под руку с претенциозной дамой. Этот очень полный молодой человек с бородкой и в щегольском мундире не вызвал у нее любопытства. Следующая их встреча состоялась вскоре после замужества Крандиевской. Соня Дымшиц, которая в то время была женой Толстого, брала уроки рисования в одном художественном классе с Тусей. Толстой жил с Софьей Дымшиц тут же при студии. По утрам он часто заходил в мастерскую, иногда в пижаме. Подолгу стоял за мольбертами, нахально рассматривая молодых художниц, холсты и голых натурщиц. Даже Тусю он долго разглядывал в лорнет, как предмет неодушевленный, что вызвало в ней сильнейшую антипатию. Таким было самое начало их отношений. Из книги ее воспоминаний цитирую: «Тысячи обстоятельств, больших и малых, предвиденных и случайных, накапливаясь в его и моей жизни, сужая круги с какой-то неизбежной последовательностью, подвели нас наконец вплотную друг к другу. Это была зима 1913/14 года, канун и начало войны»[12]. Толстой стал к тому времени модным писателем. Тогда все началось с изысканного флирта между ними, который стал прологом к роману. Ведь Туся – замужняя дама и Толстой был женат, но брак его был на грани разрыва. Граф искренне признавался ей: «Я вас побаиваюсь. Чувствую себя пошляком в вашем присутствии». А свою книгу стихов «За синими реками» прислал Крандиевской с надписью:
«Не робость, нет, но произнесть
Иное не покорны губы,
Когда такая нежность есть,
Что слово – только символ грубый»[3].
На самом деле, если граф и думал о Крандиевской, то виду он не подавал и с большим азартом обольщал молодых женщин и девушек. Наконец второй брак его окончательно распался – Толстой был свободен и по-мальчишески беспечен. С ним случилась настоящая любовь или влюбленность. Это была семнадцатилетняя балерина Маргарита Кандаурова. Балерина свела его с ума, и он сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. В семнадцать лет получить предложение от серьезного и успешного мужчины, который был вдвое ее старше, и почувствовать себя его невестой ей льстило и кружило голову, но менять сцену на замужество всерьез она не собиралась.
Тут вмешалась война… Пойти на фронт добровольцем Толстой не мог, так как граф имел освобождение от службы по причине травмы. Он стал военным корреспондентом. Толстой писал своему отчиму: «Сейчас все интересы, вся жизнь замерла, томлюсь в Москве бесконечно и очень страдаю, потому что ко всему люблю девушку, которая никогда не будет моей женой… Я работаю в “Русских ведомостях”, никогда не думал, что стану журналистом, буду писать патриотические статьи. Так меняются времена. А в самом деле я стал патриотом». А Крандиевская, как многие женщины, добровольно пошла работать медсестрой в госпиталь. До нас не дошли письма Толстого к невесте, но сохранились его письма к ее родственнику: «Мне кажется, что Маргарита совсем не любит меня, ей не нужна моя любовь. К тому же мне кажется, что я стар и безобразен и слишком смутен для Маргариты. Но, Господи, как бы я мог ее любить; но вот это самое не нужно обычно никому, потому что любят не за что-нибудь, а так»[3]. В тот же день граф написал Крандиевской: «Пишите мне… сходите на премьеру “Выстрела”, мне будет приятно»[3]. Так он гонялся за двумя зайцами, точнее, гонялся за одним, а второго не выпускал из виду. Ситуация сложилась непонятная, но сам Алексей Николаевич, рассказывая об этом дочери от первого брака Марианне, подавал ее так: «Понимаешь, я тогда был влюблен в Маргариту Кандаурову – благоухание ее юности околдовало меня. Но когда встретил Тусю, понял, что только она мне нужна. И будем мы вместе, пока живы». Кстати, это было сказано за два года до его разрыва с обожаемой Тусей в 1933 году.
Чем же Толстой так понравился самой Тусе? Об этом лучше всех в воспоминаниях скажет ее сын Федор Волькенштейн: «Мой отчим и мой отец были очень непохожими друг на друга. Это были антиподы, и личность одного из них особенно ярко проявлялась на фоне другого»[1]. К 32 годам граф успел дважды жениться и развестись, написать несколько книг стихов и прозы, привлечь внимание критики, добиться признания и славы. Стоит процитировать Алексея Варламова из книги «Алексей Толстой»: «Люди Серебряного века жили напоказ, чувств своих не стеснялись и не прятали, и целомудрие гнали вон. Порой они и сами не понимали, где кончается литература, театр, игра, а где начинается жизнь»[3]. Проводив свою невесту после спектакля домой, граф приходил к Тусе, засиживался до ночи, они разговаривали часами напролет, и двусмысленность этих встреч увеличивалась раз от раза. Своих сомнений относительно невесты Толстой не скрывал: «Маргарита – это не человек. Цветок. Лунное наваждение. А ведь я-то живой. И как все это уложить в форму брака, мне до сих пор неясно»[3]. Всех женщин он поделил на два типа: «козерог» – это самолюбие и всякие сложности, а «синица» – это сострадательная женственность. Выбор писатель сделал в пользу Туси и не ошибся. Она оказалась той самой синицей, что принесла себя и свой дар в жертву мужу и дому. Крандиевской разобраться с самой собой было намного труднее: у нее есть муж, сын, родные. Помог ей муж. Из воспоминаний Крандиевской: «На третий день, поздно вечером, я провожала мужа на Николаевском вокзале. Стоя у вагона, он говорил мне: ”Если б у меня не было доверия к чистоте твоих помыслов, я бы не уезжал спокойно, оставляя тебя. Но ведь ты не просто бабенка, способная на адюльтер. Ты человек высокий, честный”. Я слушала его стиснув зубы, думала безнадежно: ни высокий, ни честный, ни человек, просто бабенка! И мне было жалко себя, своей неудавшейся чистоты, своей неудавшейся греховности: ни Богу свечка, ни черту кочерга. Жизнь впустую»[1]. С вокзала она вернулась домой, где ожидал Толстой. «Вы? – воскликнула я. – Что вы здесь делаете? Он не отвечал, подошел и молча обнял меня». Именно этот день Наташа будет считать началом своего брака с Толстым. А Алексей Николаевич написал в этот день: «Наташа, душа моя, возлюбленная моя, сердце мое, люблю тебя навек. Я знаю: то, что случилось сегодня, – это навек. Теперь во всем мире есть одна женщина – ты. Мы возьмем от любви, от земли, от радости, от жизни все, и когда мы уснем до нового воскресения, то после нас останется то, что называют чудом, искусством, красотой»[3]. Можно представить, как проникли эти слова в душу женщины – и не просто женщины, а поэтессы. Или вот такие: «Для тебя я бы перенес всякие страдания, всякое унижение, только ты люби меня, Наташенька, хоть за то, что люблю тебя во всю силу…»[3]
Только через год они соединились в семью, стали жить в общей квартире, и эта совместная жизнь продолжалась немногим больше двадцати лет. В их семье жили тетка Толстого Марья Тургенева, сын Наташи от первого брака Федор и дочь Толстого от Софьи Дымшиц Марианна, которая всю жизнь называла Крандиевскую «Туся» и не воспринимала ее как мачеху. В феврале 1917 года родился ребенок Крандиевской и Толстого – Никита, будущий известный физик, профессор. Наташа писала: «Я родила сына Никиту и, еще лежа в больнице, узнала о свержении самодержавия. Жизнь развертывалась по новым спиралям и неслась лихорадочным темпом к целям, еще не ясным. У всех оказалось уйма новых обязанностей, деловой суеты, заседаний, митингов и банкетов…» Февральской революции Алексей Николаевич был рад, потому что она произошла бескровно и не несла угрозы ни его благосостоянию, ни благосостоянию государства. Когда сыну было три месяца, после развода Туси с первым мужем наконец состоялась свадьба с Толстым. Его искреннее признание: «Война и женитьба на Наталье Васильевне Крандиевской были рубежом моей жизни и творчества. Моя жена дала мне знание русской женщины»[3].
Октябрь 1917 года. В России – опять революция. Тревога. Стрельба. Кровь. Крандиевская вспоминает, как они с Толстым увидели пожилого господина с бородкой, в пенсне, который сокрушенно произнес: «Кончилась Россия!» Тут же чей-то веселый голос из толпы ответил: «Это для вас кончилась, папаша. Для нас – только начинается!» И Алексей Толстой понял, что время интеллигенции, писателей и интеллектуалов кончилось. Из воспоминаний писателя Ильи Эренбурга: «Алексей Николаевич Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне: “Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума…”»[3] Сам Толстой так вспоминал разговоры лета 1917 года: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?»[3] Из воспоминаний Натальи Крандиевской: «Я помню день, когда прислуга, вернувшись с рынка, объявила, что провизии нет и обеда не будет. Что за чепуха? – возмутился Толстой. – Пошлите к Елисееву за сосисками и не устраивайте паники. Но выяснилось, что двери магазина Елисеева закрыты наглухо и висит на них лаконичная надпись: “Продуктов нет” (“И не будет”, – приписал кто-то сбоку мелом)»[11]. Что будет с Россией, Алексей Толстой не знал, но что сам он не пропадет, это он знал точно. Алексей Николаевич решил про себя: что бы ни происходило вокруг и кто бы ни пришел к власти, он выплывет и вытащит тех, кто находится рядом с ним и за кого он в ответе. Революция его не сломала, не довела до уныния и отчаяния – она закалила графа.
Летом 1918-го Толстой с семьей покинул Москву. Сначала была Одесса – самый край России, затем через Константинополь на пароходе во Францию, потом Германия. Из письма графа Бунину: «Ветер подхватил нас, и опомнились мы скоро, уже на пароходе. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Три недели ехали мы в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются»[3]. Даже на пароходе Толстой работал. Из воспоминаний пасынка Федора Волькенштейна: «Я увидел перевернутый ящик из-под консервов, на котором стояла пишущая машинка “Корона”. На другом маленьком ящике сидел Алексей Николаевич, обвязанный по-прежнему шерстяным кашне с английской булавкой наверху. Он стучал на машинке. Останавливался и после долгой паузы отстукивал следующий абзац. Он работал»[3]. О жизни Толстого во Франции сохранились противоречивые воспоминания. В Париже ему сразу улыбнулась удача. Какой-то плут скупает усадьбы за наличные, надеясь нажиться за бесценок, когда прогонят большевиков. И умный граф за 18 тысяч франков продает несуществующее имение в Каширском уезде. На полученные деньги он купил три костюма, шесть пар обуви, два пальто, смокинг и набор шляп. Таким образом все деньги быстро разошлись. Со слов Крандиевской: «Жизнь в Париже была трудной. Я окончила трехмесячные курсы шитья и кройки и принялась подрабатывать шитьем платьев. Были месяцы, когда заработок мой выручал семью»[11]. Есть прямо противоположные воспоминания Бунина о том, как Алексей Николаевич не раз говорил в Париже: «Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так»[3]. Наталья о бытовой стороне их жизни в Париже вспоминала: «Мы живем в меблированной квартире, модной и дорогой, с золотыми стульями и зеркалами, но без письменных столов. Алеше кое-где примостили закусочный стол, я занимаюсь на ночном, мраморном, Федя готовит уроки на обеденном. Обходятся нам все эти удобства недешево, 1500 фр. в месяц!»[11] Справедливости ради нужно сказать, что эту квартиру оплачивал их семье Сергей Аполлонович Скирмут – давнишний друг Крандиевских, издатель и революционер, друг Горького и богатый человек.
Эмиграция стала для Толстого временем плодотворным. Он написал «Хождение по мукам», «Графа Калиостро», несколько замечательных исторических рассказов. Прототипами двух сестер в «Хождении по мукам» были Туся и ее сестра Надя. Но больше всего славы принесла Алексею Толстому в эмиграции автобиографическая повесть «Детство Никиты». На заработанные им деньги можно было очень скромно, как все эмигранты, но прожить. Однако Толстые не любили скромной жизни, Туся говорила: «Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут…»[11] Дмитрий Толстой, младший сын, вспоминает: «Мама рассказывала, что стало последней каплей в их решении вернуться. Мой брат Никита, которому было года четыре (а в этом возрасте дети очень смешные), как-то с французским акцентом спросил: ”Мама, а что такое сугроооб?”. Отец вдруг осекся, а потом сказал: ”Ты только посмотри! Он никогда не будет знать, что такое сугроб”»[3]. Не думаю, что это было главной причиной вернуться в СССР. Скорее всего, сработала интуиция и граф решил, что на родине он устроится куда лучше. Алексей Толстой пишет открытое письмо советскому правительству: «Совесть меня зовет ехать в Россию и хоть гвоздик свой собственный, но вбить и вколотить в истрепанный бурями русский корабль»[3]. Эти строки напечатали в «Известиях». Еще бы! Граф Толстой, да еще талантливый, да еще известный писатель! Накануне отъезда он объявил: «Еду сораспинаться с русским народом!»[3] Зинаида Гиппиус, поэтесса и писательница Серебряного века, писала: «Алексей Толстой, как-то очутившись в Париже эмигрантом, недолго им оставался – живо смекнул, что место сие не злачное, и в один прекрасный, никому не известный день исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам и др.»[3]. Рассказывают, что перед отъездом в Россию он продал двадцати друзьям за десять франков фарфоровый чайник, получив деньги со всех вперед и пообещав чайник после отъезда.
Итак, летом 1923 года в Петроград вернулись Алексей Толстой и Наталья Крандиевская с тремя сыновьями (младшему, Мите, будущему композитору, было шесть месяцев). Их встречала остававшаяся в России Марианна, дочь Толстого. С ее слов: «Я сразу узнала Тусю – она все такая же красивая»[3]. В воспоминаниях Марианны все было замечательно: «Наш дом в те времена напоминал Ноев ковчег. В единую семью нужно было объединить после пятилетнего перерыва сводных детей, общих детей, тетю Машу, Юленьку. И семья сложилась быстро, скрепленная умной любовью ее главы и нежной доброжелательностью Туси»[3]. Графа стали называть красным, советским, трудовым, рабоче-крестьянским… Эмиграция его заклеймила и от него отвернулась. В Советском Союзе «рабоче-крестьянский граф» стал классиком, вторым писателем Октября вслед за «буревестником» Горьким. Открыто угождал власти, льстил ей, заявляя, что «Октябрьская революция как художнику мне дала все»[3]. Он делал такие заявления: «Наш советский строй – единственная надежда в глухом мире отчаяния, в котором живут миллионы людей, не желающих в рабских цепях идти за окровавленной колесницей зверского капитала», – и еще: «Мы поднимаемся все выше и выше к вершине человеческого счастья»[3]. Когда москвичи после победы Революции получали по 100 граммов черного хлеба, граф получил дворец князя Щербатова, дачи в Барвихе и Царском Селе, личный счет в банке, который был только у авиаконструктора Туполева и Горького. Он получил также красного дерева мебель петровских времен и мебель карельской березы. В дверях стоял лакей с позументами и жезлом: «Его сиятельства дома нет, они на заседании горкома партии»[3]. А Туся все это время командовала большим и гостеприимным домом Толстых. Правда, ей помогали три домработницы, повариха, бонна для детей. Два шофера всегда были готовы поехать и привезти все необходимое. Когда произойдет разрыв с Алексеем Толстым, Крандиевская вспомнит свои неимоверные семейные заботы: «Встречи, заседания, парадные обеды, гости, телефонные звонки. Какое утомление жизни, какая суета! Над основной литературной работой всегда, как назойливые мухи, дела, заботы, хозяйские неурядицы. И все это по привычке – на меня, ибо кроме меня, на ком же еще? Секретаря при мне не было. Я оберегала его творческий покой, как умела. Плохо ли, хорошо ли, но я, не сопротивляясь, делала все. Вспоминаю мой обычный день в Детском Селе: ответить в Лондон издателю Бруксу; в Берлин – агенту Каганскому; закончить корректуру. Телефон. Унять Митюшку (носится вверх и вниз по лестнице, мимо кабинета). Выйти к просителям, к корреспондентам. Выставить местного антиквара с очередным голландцем под мышкой. В кабинете прослушать новую страницу, переписать отсюда и досюда. – А где же стихи к «Буратино»? Ты задерживаешь работу. Обещаю стихи. – Кстати, ты распорядилась о вине? К обеду будут люди. Позвонить в магазин. Позвонить фининспектору. Заполнить декларацию. Принять отчет от столяра. Вызвать обойщика, перевесить портьеры. Нет миног к обеду, а ведь Алеша просил… В город, в Госиздат, в Союз, в магазин. И долгие годы во всем этом мне удавалось сохранить трудовое равновесие, веселую энергию. Все было одушевлено и озарено. Все казалось праздником. Я участвовала в его жизни…» Федор Крандиевский вспоминает: «Отчим высоко ценил мамин безупречный литературный вкус и ее поэтический дар и говорил: “Какой я мастер?! Вот Туся – это действительно настоящий мастер!”»[11].
Но тут в жизни Толстого возникла новая любовь, и он потерял голову так же, как двадцать лет назад, когда был влюблен в балерину Маргариту Кандаурову. Его избранницей стала невестка Максима Горького – Надежда, которую все звали Тимоша. После двадцати лет совместной жизни с Крандиевской Алексей Николаевич твердо собрался сменить жену. Трещина в отношениях между супругами наметилась давно. Еще в 1929 году Толстой писал Крандиевской: «Что нас разъединяет? То, что мы проводим жизнь в разных мирах, ты – в думах, в заботах о детях и мне, в книгах, я – в фантазии, которая меня опустошает. Когда ты входишь в столовую, где бабушка раскладывает пасьянс, тебя это успокаивает. На меня наводит тоску. От тишины я тоскую. У меня всегда был этот душевный изъян – боязнь скуки»[3]. Крандиевская размышляла в ответ в своем дневнике: «Пути наши так давно слиты воедино, почему же все чаще мне кажется, что они только параллельны? Каждый шагает сам по себе. Я очень страдаю от этого. Ему чуждо многое, что свойственно мне органически. Ему враждебно всякое погружение в себя. Он этого боится, как черт ладана. Мне же необходимо время от времени остановиться в адовом кружении жизни, оглядеться вокруг, погрузиться в тишину. Я тишину люблю, я в ней расцветаю. Он же говорит: “Тишины боюсь. Тишина – как смерть”. Порой удивляюсь, как же и чем мы так прочно зацепились друг за друга, мы – такие противоположные люди?»[4] И вот пять лет спустя после этой записи оказалось, что зацепились они друг за друга совсем непрочно – настало охлаждение, скука, от которой страдали оба, но больше Наталья. Из ее воспоминаний: «Я изнемогала. Я запустила дела и хозяйство. Я спрашивала себя: “Если притупляется с годами жажда физического насыщения, где же все остальное? Где эта готика любви, которую мы с упорством маниаков громадим столько лет? Неужели все рухнуло, все строилось на песке?” Я спрашивала в тоске: “Скажи, куда же все девалось?” Он отвечал устало и цинично: “А черт его знает, куда все девается. Почем я знаю?” Конечно, дело осложняла моя гордость, романтическая дурь, пронесенная через всю жизнь, себе во вред. Со мною было неуютно и неблагополучно. Толстой это чувствовал и этого неуюта и неблагополучия не любил. Преодолевать семейные кризисы, что-то строить, терпеть, отказываться от своего “я” – все это было не для него. Он искал вдохновения»[11]. Чем больше он влюблялся в Тимошу, тем больше его раздражала Крандиевская. Если она критиковала написанное Толстым, он кричал в ответ, не слушая доводов: «Тебе не нравится? А в Москве нравится. А 60 миллионам читателей нравится»[3]. Когда она осуждала его дружбу с чекистом Яго2дой, Толстой сварливо кричал: «Интеллигентщина! Непонимание новых людей! Крандиевщина! Чистоплюйство!»[3] Отношения Толстого с Пешковой потихоньку сошли на нет. Отвергнутый граф с откровенной жестокостью говорил жене: «У меня осталась одна работа. У меня нет личной жизни»[3]. Обиженная Наталья ушла из дома сама, как романтическая женщина. Переехала жить в ленинградскую квартиру. Думала, что Толстой будет лить слезы и просить прощения. Из воспоминаний Крандиевской: «На прощанье он спросил: “Хочешь арбуза?” Я отказалась. Он сунул мне кусок в рот: – Ешь! Вкусный арбуз! Я встала и вышла из дома. Навсегда»[11]. Перед уходом она оставила мужу стихи:
Так тебе спокойно, так тебе не трудно,
Если издалека я тебя люблю.
В доме твоем шумно, в жизни – многолюдно,
В этой жизни нежность чем я утолю? <…>
Долго ночь колдует в одинокой спальне,
Записная книжка на ночном столе…
Облик равнодушный льдинкою печальной
За окошком звездным светится во мгле…[12]
Толстой отвечал иронически: «Тусинька, чудная душа, очень приятно находить на подушке перед сном стихи пушкинской прелести. Но только образ равнодушный не светится за окном – поверь мне. Было и минуло навсегда»[3]. Все дети были на стороне матери. Прошло время, и за день до смерти Толстой в феврале 1945 года сказал своей дочери Марианне: «Я никогда бы не разрушил свою семью, если бы Туся не переехала в Ленинград»[3]. Но это было потом.
Дальнейшие события в семье Толстых развернулись стремительно и предсказуемо. Из воспоминаний Крандиевской: «Нанятая в мое отсутствие для секретарства Людмила через две недели окончательно утвердилась в сердце Толстого и в моей спальне. (Позднее она говорила как-то, что вины за собой не чувствует, что место, занятое ею, было свободно и пусто.) Через два месяца она возвратилась из свадебного путешествия в тот же дом полновластной хозяйкой. Таков свирепый закон любви. Он гласит: если ты стар – ты не прав и ты побежден. Если ты молод – ты прав и ты побеждаешь»[11]. Толстому было 52, когда он женился на 29-летней Людмиле, дружившей с его детьми. С Натальей Васильевной он объяснился так: «В мой дом пришла Людмила. Что было в ней, я не могу тебе сказать или, вернее, не стоит сейчас говорить. Но с первых же дней у меня было ощущение утоления какой-то давнишней жажды. Наши отношения были чистыми и с моей стороны взволнованными. Людмила моя жена. Туся, это прочно. И я знаю, что пройдет время и ты мне простишь и примешь меня таким, какой я есть. Пойми и прости за боль, которую я тебе причиняю»[3]. После этого приговора ей осталось одно – отвечать стихами.



