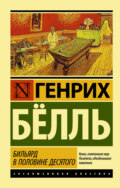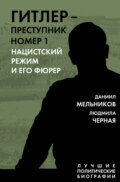Людмила Чёрная
Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
Недолгий отпуск. И уже в 1916 году Канариса послали в Испанию – так сказать, в международный центр шпионажа. Через год ему пришлось бежать и оттуда. Ну а далее засветившийся резидент становится командиром подводной лодки в Адриатике.
Конец Первой мировой войны и капитуляция Германии – отнюдь не конец карьеры Канариса. Теперь он сражается не на морях и океанах, а на суше! Плетет политические интриги.
Германии грозит революция, а будущий адмирал – воин контрреволюции. Он со всеми, кто борется против левых. От генерала Эрхарда, одного из организаторов «фрейкоров» – контрреволюционных отрядов, душителя демократии, до Носке, правого социал-демократа, военного министра в социал-демократическом правительстве Шейдемана.
Подозревают Канариса и в причастности к убийству Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Heт, он не киллер. Он действует за кулисами, и у него всегда хорошее алиби. Более или менее реальное обвинение – организация побега из тюрьмы наемного убийцы.
Но разве контрреволюционная деятельность в наши дни считается столь уж предосудительной? И разве почитаемые ныне белые генералы, воевавшие за «Русь святую», предстали миру в белых одеждах?
Все было бы хорошо, если бы в возрасте сорока восьми лет Канарис не продал душу дьяволу – не стал бы начальником абвера у Гитлера. И переломилась судьба не только Канариса, но и всей Германии.
Абвер – военная разведка. По-нашему – ГРУ. Но Канарис не был бы Канарисом, если бы не превратил свою контору на Тирпицштрассе в Берлине (именовавшуюся коллегами «лисьей норой») в мощную шпионскую и карательную организацию.
Под началом абвера была создана боевая дивизия «Бранденбург» и печально известные батальоны «Нахтигаль». И «Нахтигаль», и «Бергман» бесчинствовали на временно захваченных нацистами территориях.
Канарис – автор провокации на германо-польской границе, формально послужившей поводом для начала Второй мировой войны. Он же изобрел так называемую акцию «Ночь и туман»: в оккупированных странах люди бесследно исчезали, и никто не знал ни об их местонахождении, ни о времени и месте их гибели… Наконец, под началом Канариса фактически действовали «пятые колонны» в Западной Европе… И много чего еще на совести «маленького адмирала».
Однако в заглавие нашей книги недаром попало слово «двуликий»… В годы гитлеризма, особенно в последние, Канарис, безусловно, вел двойную игру. Он один из тех, кто и впрямь годился для переговоров с Западом в случае устранения Гитлера. И здесь у «хитроумного Одиссея» было алиби – непосредственно в заговоре участвовал не он, а его сотрудники. Но разве в нацистской Германии нужны были прямые улики, юридические обоснования?
К чему я все это рассказываю, то и дело заглядывая в старую, изрядно потрепанную книгу «Двуликий адмирал»?
Да к тому, что тогда, много десятилетий назад, все сие мне было нисколечко не интересно. Хотя, казалось бы, трудно представить себе более колоритную фигуру, чем Канарис: маленький, совершенно седой, хрупкий на вид человек со светлыми глазами степенно прогуливается перед своим особняком в сопровождении верного друга – любимой таксы.
Только конец Канариса вызывал у меня какие-то эмоции. Уж слишком жестоко расправились с ним коллеги по совместной шпионско-диверсионно-карательной работе. Начальник концлагеря Флосенбюрг Хуппенкоттен пытал его, а всего за месяц до капитуляции Германии повесил на крюке, вбитом в глухую каменную стену лагерного двора, предварительно раздев догола и прогнав по длинному коридору вдоль камер других узников…
Мораль напрашивается сама: не заводи шашней с Дьяволом…
Теперь понимаю, написать о Канарисе можно было интересно. Но нам не удалось. Мы его все время упорно – я бы сказала, тупо – разоблачали. Доказывали, что он не авантюрист, не смельчак, не умница, а всего лишь фашист. Обыкновенный фашист при обыкновенном фашизме. Конечно, таков был стиль политических памфлетов в 1960-е годы. Надо было разоблачать и клеймить. Клеймить, клеймить, клеймить… Не проявлять ни сочувствия, ни сожаления, ни даже иронии… Клеймить… А это всегда скучно.
Но главное, мне неудержимо хотелось рассказать о людях и событиях вокруг меня, а Канарис казался пришельцем с другой планеты и даже из другого века – из ХIХ…
А сейчас вернусь к Главной книге.
Мотором, стратегом, как сейчас сказали бы менеджером, в нашей семье был муж, но с Главной книгой все обстояло сложнее.
Собственно говоря, идея книги, ее основной замысел принадлежал мне. Просто я по своему косноязычию не могла четко сформулировать даже идею, а уж тем более обозначить тему, нечто конкретное.
Сейчас даже немного стыдно говорить о той идее схожести разных тоталитарных систем, настолько она тривиальна. За прошедшие годы мы успели забыть, что жили за железным занавесом. Железный занавес не был выдумкой Черчилля, он прошел почти через всю мою жизнь и был воистину непроницаем. То, что уже давно было осознано, известно, стало аксиомой во всем мире, для меня оказалось… открытием, чуть ли не озарением.
Переводя хорошие послевоенные западногерманские романы и заглядывая иногда в библиотеку, присланную Бёллем, я постепенно осознавала, что между немецким национал-социализмом и другими тоталитарными системами существует корневое сходство. Для совка начала 1960-х мысль эта была и крамольна, и нетипична. Ведь шестидесятники, что греха таить, считали возможным реформировать социализм, вернуть его к Ленину («ленинские нормы»), построить социализм с «человеческим лицом», то есть социализм, заявленный в СССР, был якобы хорош по замыслу, плох – по исполнению.
А я как зачарованная твердила, что разные народы, с разной историей, в разных странах, с разным менталитетом могут создать похожий тоталитарный строй. Ну, пусть не один, а два, но похожих… Почти одинаковых…
В разговорах с мужем я повторяла с одержимостью маньяка:
– Понимаешь, похоже, похоже! Все похоже: театр и кино, песни, выставки… Похоже, похоже, похоже! – твердила, бормотала я, говорила громко и шепотом.
– Понимаю. Знаю. Но что ты хочешь написать? – раздраженно вопрошал муж. – Объясни, назови…
Так продолжалось довольно долго. Месяцы, может быть, год или два.
Я заболела своим «похоже», желанием выразить это на бумаге. Но ничего путного придумать не могла. Правда, написала многостраничную статью о похожести наших сталинских писак-бездарей типа Кочетова-Софронова с гитлеровскими писателями-бездарями, которые и после разгрома нацизма восхваляли уцелевших гитлеровских вояк. Мол, они похожи во всем… Но кто прочел в то время эту мою длинную статью, хоть она и была напечатана в «Новом мире» Твардовского?
И вдруг однажды муж сказал:
– Давай, бери бумагу и ручку. Записывай! Значит, так: книга будет называться «Гитлер». А теперь пиши план: «Первые годы», «Приход к власти…»
Я негодовала, кричала:
– Какой, к черту, Гитлер? Кто тебе разрешит печатать книгу о Гитлере? Ты сошел с ума.
Идея и впрямь в 1960-е казалась неосуществимой, немыслимой, бредовой. Ведь любая биография-монография ведет к «очеловечиванию» объекта этой монографии. А для советского читателя нацистские фюреры существовали лишь как карикатура. Впрочем, и карикатура не годилась. Фильм Чаплина «Диктатор» был запрещен. Имя Гитлера вымарывалось из наших книг так же, как и имя Троцкого.
Думаю, здесь немалую роль сыграл менталитет Сталина.
Уже по одному этому книга о Гитлере могла не пойти. Кроме того, написав книгу о Канарисе, мы с мужем поняли, что беспрерывное поношение героя ни к чему хорошему не приводит. А Гитлер не Канарис – какая-то харизма у него существовала. Так мне, по крайней мере, казалось тогда. В процессе работы над «Гитлером» я поняла: харизма тирана – это харизма Власти.
Не буду перечислять всех моих доводов против. Их была уйма. «Книгу о Гитлерe не выпустят» – таков был вывод.
Нo, сколько бы я ни уговаривала и мужа, и себя, что его замысел невозможно осуществить, мне самой становилось все яснее, что только в книге «Гитлер» мы сможем показать сходство тоталитарных систем.
В голове все время вертелись строки Маяковского: «Мы говорим Ленин, подразумеваем – партия, мы говорим партия, подразумеваем – Ленин». И еще навязчивый лозунг: «Народ и партия едины». Словом, Гитлер – это была и партия нацистов, и одураченный народ Германии…
Правда, уже тогда в мозгу копошилась мысль о том, что аналог Гитлеру не Сталин, а Ленин. Ленин создал партию большевиков, Ленин призывал к переустройству мира и брал власть, Ленин сконструировал машину внесудебной расправы – Чрезвычайку. Но Ленин все еще был табу в 1960-е. Да и лет через пятнадцать-двадцать, уже после выхода книги в свет, известный американский историк-советолог Такер, когда я сказала насчет Ленина-Гитлера, прямо-таки зашелся от негодования. Кстати, это было у нас дома – и он вел себя невежливо.
Для левой интеллигенции Запада Ленин был Революционер с большой буквы.
С самого начала мы разделили будущую работу на две части: начало, становление партии НСДАП, становление самого фюрера, подготовка к захвату власти, захват власти – все это должна была писать я. А политику и идеологию третьего рейха, а также войну – все ее фазы – писал муж. Я написала финал – самоубийство Гитлера в бункере… И я должна была свести воедино обе части, мою и мужа, и по возможности подогнать под один стиль. А также работать с редактором.
Конечно, оба мы портили книгу, замусоривая ее цитатами из классиков марксизма. Писать без этого не позволял и внутренний цензор, то есть уже загнанный в подкорку страх перед правдой, и горячее желание увидеть книгу напечатанной!
Кстати, во время работы над «Гитлером» судьба преподнесла нам еще один подарок (первым подарком стали книги, присланные Бёллем). Знаменитый кинорежиссер Михаил Ромм стал снимать фильм под названием «Обыкновенный фашизм». Одним из консультантов фильма был старый коминтерновец Генри (Ростовский), приятель мужа. Он привлек Д. Е. к консультированию группы Ромма. С мужем отправилась на «Мосфильм» и я. Да так там и застряла, каждый день бродила по мосфильмовским лабиринтам. Группа Ромма проделала титаническую работу – просмотрела километры нацистской хроники. В то время, как я там появилась, они уже монтировали фильм. Отличный фильм.
Так что к моим книжным знаниям прибавились два ряда – зрительный и звуковой. Фюрер, наш герой, во всех ракурсах и немецкое население, запакованное во всякого рода мундиры и марширующее в безупречных колоннах. Колонны маршировали утром, днем и ночью (с горящими факелами). И еще я увидела концлагеря, когда в них входили мы и наши союзники, и людей-скелетов, чудом выживших узников.
Звуковой ряд тоже оказался неплох: вся хроника шла под нацистские марши и песни, бодрые, зажигательные, мелодичные, никаких тебе синкоп, никаких негритянских джазов (в нацистской Германии эпитет «негритянский» обязательно прилагался к слову «джаз»).
На «Мосфильме» звукооператоры переписали эти замечательные марши и песни на магнитофонную пленку, и они зазвучали по всей Москве… Все восхищались, но говорили: «Наши не хуже».
Уже тот факт, что нам с мужем и Ромму одновременно захотелось вопреки всем явным препятствиям и неизбежным неприятностям рассказать о немецком фашизме – и тем самым мысленно сопоставить две системы, – достаточно показателен. Тема «Гитлер» или тема «похоже» тогда витала в воздухе.
Очень помогло нам и то, что мы не собирались конкурировать с немногими книгами наших историков о немецком фашизме (например, с публикациями А. Галкина, Гинцберга, Проэктора и др.). Это были научные труды (вернее, наукообразные), ибо анализ фактов должен был быть марксистским и подчиняться формуле «германский фашизм есть господство самых реакционных сил германского империализма».
Да, мы с самого начала хотели написать не научный труд, но популярную, общедоступную книгу, не заумную, а занимательную.
Не конкурировали мы и с западными историками, у которых, в отличие от нас, был доступ к архивам. Но мне кажется, что архивы были не обязательны в данном случае. Дело в том, что безоговорочная капитуляция нацистской Германии, ее тотальный разгром сделали возможным то, что всегда считалось невозможным: в руки стран-победительниц попало самое тайное тайных. И все сразу стало публиковаться. Вышли десятки сборников документов, приказов, распоряжений, донесений, а также личные дневники нацистских бонз (к примеру, Геббельса) и личная переписка (к примеру, Бормана с женой). Были напечатаны стенограммы застольных ночных монологов Гитлера, протоколы заседаний в нацистской ставке и ежедневные докладные соратника Гиммлера Олендорфа о «настроениях в рейхе» – проще говоря, ежедневные донесения нацистских стукачей.
Огромное количество документов было оглашено на Нюрнбергском процессе…
Тем не менее до сих пор мы многого не знаем.
Кто поджег Рейхстаг? Считается, что Геринг. Но где документальные доказательства, что именно Геринг осуществил эту акцию 27 февраля 1933 года?
Где приказ Гитлера об уничтожении верхушки штурмовых отрядов 30 июля 1934 года? Приказ о казни Рема? Об убийстве четырехсот высокопоставленных штурмовиков? Заодно и об убийстве бывшего рейхсканцлера Германии Курта Шлейхера и его жены и Грегора Штрассера – второго человека в НСДАП? Где этот самый план «ночи длинных ножей»?
А где приказ Гитлера об «окончательном решении еврейского вопроса», принятый в 1942 году на конференции в Ванзее? Неужели Гейдрих в этом случае действовал без прямых указаний фюрера?
И куда затерялся «Генеральный план Ост» – план истребления славянских народов до Уральских гор, превращения славян в рабов, заселения европейской части России немецкими колонистами?
По моему глубокому убеждению, специфика тоталитарных государств в том и состоит, что многое в них делается не по писаным законам и распоряжениям, а по тайному сговору и решения скрепляются не подписью Первого Лица, а кивком головы или какой-либо специальной гримасой-ужимкой.
Где-то лет двадцать пять назад нам официально сообщили, что были секретные протоколы к советско-германскому Договору о дружбе. Но кто этого не знал? Протоколы на Западе давно напечатали. Да и все поведение наших военных (ввод войск в Польшу), внезапная остановка наступления ясно свидетельствовали о том, что мы действуем по договоренности с Германией…
Ну, и что мы еще узнали?
Узнали, что Брежнев злоупотреблял под конец жизни транквилизаторами. Неужели это так важно? Увидели по ТВ Светлану Аллилуеву, которая ничего, в сущности, не прояснила…
А вот про открытые процессы 1930-х так ничего толком и не узнали. Не узнали, почему все подсудимые себя оговаривали – одни версии. Версия Сланского. Версия Солженицына. Версия известного юриста В. Самсонова – нашего с мужем приятеля…
Множество слухов ходило в Советском Союзе и лично о Сталине. Ясно, что ни один из них никогда не будет подтвержден документально.
Сталин убил Ленина. Сталин убил Кирова. Сталин убил Горького. Сталин убил Димитрова.
Берия убил Сталина.
Ну, допустим, Сталин убил Горького (о последних днях Горького существуют две превосходные книги: Дм. Быкова и П. Басинского). Но значит ли это, что существовал приказ Сталина, к примеру, такой:
«Тов. Ягоде.
Приказываю ликвидировать Горького А. М. с помощью соответствующей пищевой добавки. Об исполнении доложить.
Подпись».
«Товарищу Сталину.
Рапорт
Согласно Вашему приказу, Горькому А. М. был прислан шоколадный торт весом в 1 кг. В один, специально помеченный, кусок торта наш сотрудник имярек заложил белый порошок (хим. формула). Далее другой наш сотрудник имярек положил означенный кусок торта с белым порошком (хим. формула) на тарелку Горькому А. М. И тот съел его в присутствии 6 свидетелей (фамилии перечислены). Съев торт, но не весь кусок, Горький А. М. запил его стаканом чая и пошел спать. Летальный исход наступил на следующий день, в 10 часов 13 минут утра.
Оставшийся недоеденным кусок торта наш сотрудник имярек уничтожил путем спуска в унитаз.
Ягода».
Смешно?
В обстановке неправового государства слепая вера в архивы кажется мне по меньшей мере наивной.
Кстати, какие архивы были у А. Авторханова, написавшего несколько отличных книг, в том числе «Технологию власти»?
«Архипелаг ГУЛАГ» – очевидно, самая гениальная книга nоn fiction – носит подзаголовок «опыт художественного исследования», а в посвящении говорится:
«Посвящаю
всем, кому не хватило жизни
об этом рассказать. И да простят они мне,
что я не все увидел, не все вспомнил, если
не п р е д у г а д а л все» (Разрядка моя. – Л. Ч.).
«Не предугадал все»… Конечно, что позволено Юпитеру, не позволено быку… Но мне кажется, что и простым смертным удается иногда кое о чем догадываться. В данном случае мы старались предугадать то, чего не могли знать западные ученые, не пережившие на своей шкуре всех ужасов тоталитаризма. Предугадывали, опираясь на собственный жизненный опыт, совсем в другой стране, в стране победившего социализма.
Какие-то, пусть не столь уж важные, открытия-догадки в «Преступнике номер 1» были.
Западные историки считали, что Гитлер очень мешал немецким генералам вести войну. Однако муж доказал, что в большинстве случаев фюрер в споре с ними оказывался прав. Профессиональные военные не понимали сущность пресловутого блицкрига. Гитлер, не имевший никакого военного образования и не получивший в Первой мировой войне офицерских нашивок, лучше разбирался в той войне, которую он вел…
По-моему, и я кое-что поняла, чего не понимали на Западе: в частности, значение так называемой партийной дисциплины – и еще финальные сцены в бункере под «Имперской канцелярией». И связано это было с фигурой Геббельса. Геббельс – единственный из ближнего круга Гитлера не пытался бежать на Запад. Хотя, казалось бы, у него были наибольшие шансы выжить, ведь он числился всего-навсего министром пропаганды и просвещения. В годы войны в ТАСС я прочла книгу американца Курта Риса, известного разведчика, который, размышляя о послевоенной судьбе Третьего рейха, написал, что уж Геббельс-то наверняка поселится в Штатах и будет издавать там свои мемуары. Но Геббельс надеялся не на милость Запада, а на милость Сталина. Он был самый левый штрассеровец, без пяти минут коммунист. И он желал связаться лично со Сталиным и выдать ему труп Гитлера. Естественно, Сталин на это не пошел. Геббельс перехитрил самого себя – но именно он срежиссировал нелепый спектакль в бункере.
Многое мы осознали и в структуре гитлеровского государства – вернее, догадались… по аналогии.
По достоинству оценили аппаратчика Бормана, которого западные исследователи считали и считают второстепенным персонажем. Мы же в Бормане видели гитлеровского преемника, стопроцентного чинушу.
«Преступник номер 1» был нашим любимым детищем. Но жизнь этой книги сложилась убийственно трудно.
Впрочем, биография любимого детища начиналась точно так же, как биография всех книг в послесталинском Советском Союзе, исключая, быть может, книги политических или литературных сановников, то есть номенклатуры.
Перепечатанная на машинке в трех экземплярах и тщательно вычитанная рукопись была уложена в три весьма непрезентабельные канцелярские папки и завязана тесемками, дабы драгоценные листы не рассыпались еще до того, как их оприходуют в соответствующем издательстве, с коим был заключен договор.
Мы с мужем подписали договор с «Политиздатом», уже выпустившим «Двуликого адмирала» (Канариса), – заметим, с «Политиздатом» при ЦК КПСС. Вот кому мы собирались всучить свое крамольное дитя…
Издательство это помещалось в центре Москвы, на Миусской площади – тихой, солидной и относительно безлюдной, в середине которой радовали глаз милый скверик и довольно уродливый памятник Фадееву. В скверике гуляли молодые мамы с колясками.
Относительное безлюдье этого уголка Москвы объяснялось тем, что там разместились только серьезные, духоподъемные учреждения: ничего пошлого вроде магазинов, палаток или, упаси бог, кафе, забегаловок и увеселительных заведений там не было. Следственно, простой народ не шастал туда-сюда. Правда, там находилось и огромное, оставшееся еще с дореволюционных времен, здание Химического института им. Менделеева, но веселых стаек студентов я почему-то не помню.
Мне Миусская площадь представлялась сугубо партийной. Кроме «Политиздата» там был еще комплекс зданий, принадлежавших вначале ВПШ (Высшей партийной школе), а потом, после ее закрытия в 1978 году, Академии общественных наук при ЦК КПСС – так сказать, цитадели советской партийной науки. История ее прямо для романа. Дело в том, что одно или два шикарных здания воздвиг в начале ХХ века Шанявский, генерал царской армии, и разместил там свой частный университет. В нем работала либеральная русская профессура. «Вольный университет» был единственным частным заведением такого типа в России, остальные все числились «императорскими». Естественно, при советской власти университет закрыли, здания присвоили, достроили – и создали храм партийной науки. Однако в разгар нашей шелково-бархатно-либеральной революции, а именно в августе 1991 года, в храм вселился один из ее Робеспьеров – Юрий Афанасьев и основал там Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Шестидесятники ХХ века сменили шестидесятников ХIХ века.
Еще на Миусской располагалось Министерство среднего машиностроения – то есть при развитом социализме «наше все», как Пушкин, поскольку оно ведало атомными делами. Не считая разве только самого загадочного – среднего машиностроения.
И наконец, на Миуссах, ближе к улице Горького, ныне опять Тверской, в переулочке, рядом с недовзорванными остатками недоразобранного собора Александра Невского, был возведен чудо-дом, где, как мне сказали, среди другой партийной элиты проживали и Борис Ельцин, и Геннадий Зюганов… Небось, и собачек вместе выводили гулять в Миусский сквер, к памятнику Фадеева.
«Политиздат» 1960-х я помню плохо. Но в 1980-е я там опять часто бывала (вышли две книги). И тогда четырехэтажное здание издательства имело вид перманентной стройплощадки. Внутри шел нескончаемый ремонт. Сотрудники переезжали из комнаты в комнату, ибо то и дело в помещениях перекладывался паркет – дом «Политиздата» был старинный, в нем прежде помещался не то кадетский корпус, не то еще что-то царское и военное.
В остальном все выглядело, как и должно было выглядеть при советской власти, то есть достаточно казенно и уныло. Жемчужиной издательства был буфет в подвале. В годы обострения дефицита там можно было недорого и прилично поесть.
Рукопись «Преступника» приняли и зарегистрировали. Началось ее «прохождение».
«Прохождение» было у всех трудов одинаковое, опять же не считая трудов VIP-персон, то есть номенклатурщиков. Читал и проверял редактор, потом согласовывал свою правку с автором, далее перечитывал и отсылал в Главную редакцию, там труд снова читали. Постепенно рукопись обрастала подписями – старшего редактора, начальника отдела, главного редактора. Продолжалось это очень долго – иногда много месяцев. Никто не торопился…
Нашим старшим редактором был Исаак Соломонович Динерштейн – фигура вполне типичная для тех лет. Он был однокашник мужа по историческому факультету МГУ, заведению почитаемому. В отличие от мужа, в котором всегда чувствовалась какая-то некондиционность, как у «Теркина на том свете», Динерштейн был кондиционный, образцовый член КПСС. Я же и вовсе была беспартийная дама-литератор. Меня Динерштейн всерьез не воспринимал. Ежели возникали какие-то принципиальные вопросы, в спор со мной не вступал, говорил: «Ладно. Я позвоню Меламиду. С ним и будем решать…»
Конечно, Динерштейн прекрасно понимал, о чем книга, и избрал единственно правильную тактику. Читая книгу взахлеб, чуть ли не вслух в мое отсутствие (это я потом узнала), при мне делал вид, будто это самая обычная и привычная работа, бичующая германский фашизм и его фюрера Адольфа Гитлера.
В эту игру мы с ним играли очень увлеченно. Но и он, и я понимали, что «Преступник» таит угрозу не только для авторов, но и для издательства, и даже лично для редактора. И Динерштейн всячески пытался эту угрозу отвести. Не вдаваясь в принципиальные положения, хотел спасти книгу цитатами из классиков марксизма, сакральными словами: империализм, монополистический капитал, милитаризм, агрессия, а также ругательствами. Словом, делал то же, что и мы сами.
Помню только одну деталь! К имени «Гитлер» и к слову «фюрер», которые, естественно, в монографии о Гитлере встречались на каждом шагу, прибавлял эпитет «бесноватый». И так каждый раз.
– Исаак Соломонович, – жалобно говорила я, – он уже был «бесноватый» двумя строками выше…
– Не спорьте. Пишите «бесноватый».
– В этой главе он сорок раз «бесноватый».
– Хоть сто сорок раз. Вы, видимо, не понимаете всей важности темы. Хотите угробить книгу? Пожалуйста. Но я, редактор, не желаю терпеть вашей политической слепоты.
И так продолжалось, наверное, месяц. Сидя в довольно большой комнате, где стояли штук пять письменных столов, мы с Динерштейном добродушно препирались, не держа друг на друга зла. Я до сих пор не поминаю лихом этого нашего, ныне давно покойного, редактора. Оба мы в силу своего разумения хотели как лучше. Я думала: «Черт с ним, пусть будет “бесноватый” на каждой строчки, лишь бы не забодали книгу». Он думал: «Может, с “бесноватым” книга как-нибудь проскочит…»
Интересно, что никто в редакции, как я сейчас понимаю, не верил, что «Гитлер» «проскочит». И все смотрели на меня сочувственно-жалостливо, почти как в «Воениздате», когда набор «Генералов» рассыпали.
Особенно трогательным показался мне один из заключительных эпизодов политиздатовской эпопеи.
Работа с Динерштейном закончилась. Прошло какое-то время, все было тихо. Конечно, каждая книга, даже самая невинная, «проходила» для авторов в обстановке секретности: написавшие ее не должны были знать, где она (в какой инстанции), что с ней, каковы перспективы… Поэтому так неожиданно прозвучал звонок из издательства.
– Приезжайте скорее. Книгу подписали в набор, и вы можете получить гонорар… Сегодня день выплаты. Приезжайте. Будем ждать.
К тому времени я уже перевела много книг и считала, что хорошо разбираюсь в издательской кухне. Поскольку на дворе стояли не 1937–1938 и не 1949–1953 годы, иными словами, не годы Больших московских «посадок», когда за авторами могли прийти каждую ночь, то я несколько удивилась настоятельному совету незамедлительно ехать за гонораром.
По натуре я из числа «куч»: расшевелить меня трудно – сперва я долго раскачиваюсь и только потом совершаю какие-то, даже самые тривиальные, поступки.
И я начала торговаться, но потом все же поехала – получила деньги и за себя, и за мужа. Кроме материальной выгоды, было и моральное удовлетворение: секретарша, младшие редакторы и девочки из бухгалтерии встретили меня как триумфатора. И рассказали, что один экземпляр рукописи (без правки Динерштейна) они дают читать сотрудникам на дом, чтобы их родные и близкие тоже просветились. Продемонстрировали даже длинный список очередников на прочтение «Преступника». Против многих фамилий стояли крестики – стало быть, уже прочли и получили удовольствие. Никогда не забуду, с каким удовольствием эти политиздатовцы вручали мне деньги и желали, чтобы книга вышла.
С того дня я запомнила: простые люди, не изображающие из себя «пламенных революционеров-демократов», бывают куда доброжелательней, нежели эти самые рев. демократы.
Помню, с каким чувством превосходства разговаривали с нами, требуя рукопись для прочтения, тот же Рой Медведев или бывший сокурсник-историк Д. Е., М. Гефтер (он, кстати, исключал мужа из ВЛКСМ, будучи ортодоксальным комсомольским вожаком).
Но пойду дальше.
Начался новый этап под названием: «Главная книга запрещена на 14 лет»…
Собственно, если быть честной, непосредственными виновниками запрета стали мы сами. Бес гордыни нас обуял. Кое-кто из наших друзей прочел «Преступника…», и нас хвалили. Среди таковых был Борис Слуцкий, мнением которого мы очень дорожили и который сказал мужу примерно следующее: «Если книга выйдет, вы окажетесь на переднем крае… Вас накроет огонь из всех орудий…»
А кому не хотелось тогда оказаться на переднем крае? «Орудий» не так уж и страшились, застой всем осточертел.
И муж повторял на все лады:
– Я с радостью брошу им на стол свой партбилет.
Итак, мы с мужем возгордились. И результатом этого стал мой звонок Владимиру Яковлевичу Лакшину в «Новый мир». Критик Лакшин считался в ту пору любимцем Твардовского. Среди интеллигенции он приобрел неслыханную популярность. Его статей ждали, их читали взахлеб.
Естественно, метод Лакшина не сильно отличался от нашего, и он, анализируя литературные произведения XX века, играл на аллюзиях и подтексте… Человек этот для меня до сих пор загадка. Но обращаться в «Новом мире» к кому-то другому было бы, наверное, бесполезно – разве что к самому Твардовскому. Однако Твардовский был для меня (и по сию пору остается) богом – только сопровождая Бёлля, я осмеливалась беспокоить его, да и то очень стеснялась и угрызалась.
К сожалению, о «Новом мире» тех лет, да и о самом Твардовском новые поколения мало что знают. А между тем, если будет когда-нибудь счастливая, богатая, процветающая Россия, то первым надо воздвигнуть в ней памятник предтече этой России – Александру Трифоновичу Твардовскому. И как-нибудь изобразить рядом с ним его детище «Новый мир» в бледно-голубой, прямо-таки голубиной, обложке.
Помню, в западногерманском журнале в 1960-е я как-то увидела портрет Твардовского с подписью: «А. Твардовский, напечатавший А. Солженицына» – и сразу стало тревожно на душе… Как бы западные журналисты-советологи, перепутав по обыкновению все на свете, не внедрили в сознание людей, что Твардовский стал Твардовским, опубликовав «Один день Ивана Денисовича». Твардовский потому и опубликовал Солженицына, что он был Твардовским. Ни один редактор в Советском Союзе не рискнул бы ради – пусть гениального – рассказа бывшего зэка забыть вдолбленный ему с малолетства страх, бросить на кон свою личную славу, судьбу, собственную и близких, наконец, свой журнал для того, чтобы дать людям прочесть жгучую правду о сталинских лагерях.
Впрочем, что там западные советологи!..
Сколько вспоминают сейчас вечера в Политехническом музее, когда задиристые молодые люди – долговязый Евтушенко и хрупкий на вид Вознесенский – декламировали свои стихи, вызывая восторг сотен таких же молодых людей.
А когда Твардовский был в возрасте этих мальчиков, его «Теркина» читали миллионы, целые фронты. Он еще студентом стал классиком: «Страну Муравию» учили в школах…
Часто вспоминают, как в слепых машинописных копиях читали «Раковый корпус» и «В круге первом». А как читали в таких же бледных копиях «Теркина на том свете» – забыли? Представить себе социалистический рай как царство мертвечины – это только Твардовский мог.