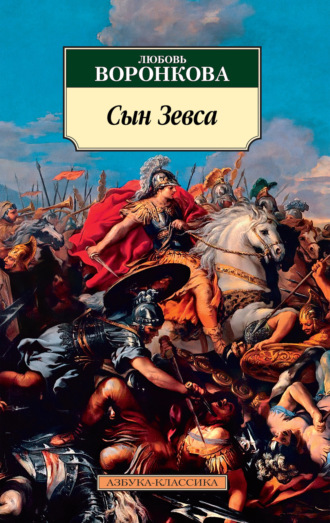
Любовь Воронкова
Сын Зевса
Кто такой Демосфен
Детство Александра проходило в тяжелой атмосфере семейного разлада.
Олимпиада любила сына со всем пылом своей яростной души. И мать, и кормилица старались сделать все, чтобы он был счастлив в их теплом женском окружении и чтобы он не очень тянулся к отцу.
Олимпиада рассказывала мальчику разные истории о победах македонских царей и царей эпирских. Особенно эпирских. Ее не очень заботило, все ли понимает Александр в этих рассказах. Ей доставляло какое-то горькое удовольствие повторять, что род царей эпирских из племени воинственных, всегда независимых молоссов нисколько не хуже и не ниже царей македонских.
– Македонские цари – и твой отец – происходят от Геракла. А мы, цари Эпира, – а через меня и ты тоже – ведем свой род от Ахиллеса, сына Пелея. Ахиллес – великий герой, прославленный на все века.
Она могла без конца рассказывать о своих знаменитых предках. О том, как богоравный Ахиллес воевал под Троей, какие были на нем доспехи, какое копье было у него, какой щит… А мальчик не уставал слушать рассказы о войнах и битвах.
Филипп, занятый военными походами, обуянный дерзкими замыслами покорить все соседние народы, редко бывал дома.
Но иногда перед светлоглазым мальчиком являлся бородатый человек, от которого крепко пахло потом и железом, громогласный, веселый, – его отец. Несмотря на ревнивое неудовольствие матери, Александр тянулся к нему, хватался за его кудрявую бороду, пытался вытащить из ножен кинжал, висевший у пояса…
Однажды Филипп вернулся из похода с черной повязкой, закрывавшей правый глаз. Трехлетний Александр с любопытством разглядывал его повязку, а потом захотел посмотреть на тот глаз, что спрятан под ней.
– А там нет глаза, – спокойно сказал отец, – выбило стрелой. Но что глаз? Я осадил большой город Мефону, понимаешь? Осадил и взял. Жители не хотели сдаваться, защищались. Вот и выбили мне глаз. Стрелой со стены. Однако я все-таки Мефону осадил и взял.
– Осадил и взял, – повторил мальчик.
– Да! Взял! – подтвердил отец. И добавил с жестокой усмешкой: – А за мой глаз я с ними сполна расплатился. Немало их там осталось лежать на земле.
– Ты их убивал?
– Убивал. А что же еще с ними делать, если они не сдаются?
Александр замолк, наморщив светлые бровки. Он старался освоить урок завоевателя: если не сдаются – убивай!
Филипп упорно и последовательно осаждал и захватывал города эллинских колоний. Закончив одну битву, он бросался в другую. Разграбив один город, он захватывал и грабил другой. Сила его росла, войско крепло, сокровищница наполнялась золотом.
И только с Афинами Филипп старался сохранить мир. Афины по-прежнему стояли перед ним со всей своей мощью, со своим спокойствием и презрением. Филипп ненавидел афинян, этих надменных людей.
И он любил их, любил с того самого времени, когда еще юношей жил у фиванцев. Сильны и могущественны были Фивы. Но Афины – это город мудрецов и поэтов, ваятелей и художников, город ораторов и ученых: какой высокой славой он увенчан! И как хотел бы Филипп войти в этот город афинским гражданином, равным каждому из афинян!
Правда, теперь они признали Филиппа эллином, он вынудил их к этому. Но признали лишь потому, что стали опасаться его военной силы. Все равно он для них варвар. Македонянин. Они даже над языком македонским смеются: «Что-то вроде эллинского, но какое грубое варварское наречие! И еще называют себя эллинами!»
Филипп сохранял с Афинами мир. Но никогда не оставлял мысли победить Афины. К этому он готовился исподтишка. Захватывая афинские колонии, всякими хитростями ссорил между собой их союзников, вносил разлад через своих тайных соглядатаев даже во внутренние дела Афин. Однако затевать открытую войну опасался: у афинян еще достаточно сильное войско и самый большой флот.
Поэтому пока лучше давать клятвы дружбы и верности, самой горячей дружбы и самой неизменной верности!
Но в Афинах уже поселилось беспокойство. Какая-то маленькая, незначительная Македония захватывает эллинские города один за другим, и эллины все время проигрывают битвы. Что происходит? Может быть, Афины уже потеряли и свою силу, и свое влияние? Может быть, Филиппа уже нельзя победить, нельзя остановить его наступление на их земли? Или и вправду его войска непобедимы?
В эти дни тревоги и дурных предчувствий пританы[7] созвали народное собрание, высший орган их демократической власти.
Народ собрался на Пниксе, на холме в юго-западном районе города, где почти всегда проходили народные собрания. Тяжелые стены из огромных камней полукругом охватывали Пникс. На каменных скамьях сидели афинские граждане, шумя, толкаясь, споря… Сегодня глашатаям не пришлось уговаривать их прийти на собрание или притаскивать насильно, охватывая толпу окрашенной киноварью веревкой, как нередко случалось в последнее время. Опасность стала угрожающей.
На высокую трибуну, с которой была видна дальняя синева моря, взошел афинский оратор Демосфен. В скромной одежде, с обнаженным правым плечом, как ходили тогда эллины, он встал перед народом, стараясь справиться со своим волненьем. Ему нередко приходилось выступать на Пниксе, и все-таки он каждый раз мучительно волновался. Он знал, что некрасив, что его худые руки, напряженно сжатый тонкогубый рот, сдвинутые брови с глубокой морщиной между ними не производят на людей пленяющего впечатления, необходимого оратору. Бывало все: издевательства над его картавостью, свистки… Случалось, что его сгоняли с трибуны из-за слабости его голоса.
Все это преодолено. Однако отголосок страха перед неудачей таился в глубине души, и Демосфену каждый раз приходилось переживать трудное мгновение, прежде чем начать свою речь. Так было и сейчас. И толпа, чувствуя это, слегка зашумела.
– Граждане афинские!..
Мощный чистый голос прокатился над площадью. Площадь затихла. Речь Демосфена зазвучала над ней:
– Прежде всего не следует, граждане афинские, падать духом, глядя на теперешнее положение, как бы плохо оно ни представлялось!
Народ слушал с жадностью. Это было то, что он хотел услышать.
– Вы сами, граждане афинские, довели свои дела до такого плохого состояния, так как не сделали ничего, что было нужно. Вот если бы вы сделали все, что могли, и дела наши все-таки оказались бы в этом тяжелом положении, тогда и надежды на их улучшение не было бы.
Демосфен горько упрекал афинян в бездеятельности по отношению к Филиппу, в том, что они на горе себе верят ему. Это было не очень приятно слушать. Но Демосфен не лишал их надежды справиться с македонской угрозой, и они слушали его затаив дыхание.
– Если же кто-нибудь из вас, граждане афинские, думает, что с Филиппом трудно вести войну, потому что силы его велики и потому что наше государство потеряло все укрепленные места, тот человек судит, конечно, правильно. Но все-таки пусть он примет в расчет то, что мы, граждане афинские, когда-то владели Пидной, Потидеей и Мефоной и всей этой областью с окрестностями. И пусть он вспомнит, что нынешние союзники Филиппа раньше предпочитали поддерживать дружественные отношения с нами, а не с ним. Если бы Филипп испугался и решил, что с афинянами воевать ему будет трудно – ведь у нас столько крепостей, угрожающих его стране! – если бы он заколебался тогда, то ничего не добился бы и не приобрел такой силы.
Демосфен говорил долго, но афиняне все так же внимательно и жадно слушали его. Его речь поднимала дух афинских граждан, а это было сейчас необходимо им.
– Не думайте же в самом деле, что у него, как у бога, теперешнее положение упрочено навеки! Что же надо делать Афинам? Снарядить войско и положить конец разбоям Филиппа…
Филиппу очень скоро стало известно о выступлении Демосфена.
У македонского царя по всем окрестным странам были свои люди – «подслушиватели» и «подглядыватели». Вот и теперь один из них прибыл к нему из Афин и подробно рассказал, о чем говорил Демосфен.
Филипп усмехнулся:
– И он думает, что Афины станут воевать по его слову! Напрасно старается: афинян на войну не поднимешь. Они изнеженны и ленивы, они привыкли к тому, что все труды несут за них рабы и наемники, а война – слишком тяжелый и опасный труд. Выступать на площади, щеголять красноречием – вот их занятие. Крыша еще не горит у них над головой! – И добавил про себя с угрозой: «Но уже тлеет!»
Александру было всего пять лет, когда Демосфен произнес свою первую речь против его отца.
– Кто такой этот Демосфен? – спросила Олимпиада у Ланики. – Еще один афинский крикун?
О Демосфене уже слышали во дворце, о нем говорили, над ним смеялись. Брат Ланики, Черный Клит, был одним из молодых этеров Филиппа, поэтому Ланика знала, кто такой Демосфен.
Демосфен, сын Демосфена, – из семьи богатых афинских граждан. У его отца был дом в городе и две мастерских – мебельная и оружейная, в которых работали рабы. Отец Демосфена был человек достойный уважения. Это признает даже его противник, оратор Эсхин. Но вот со стороны матери у Демосфена, как считалось тогда в Элладе, не все благополучно. Его дед Гилон был изгнан из Афин за измену. Он жил на берегу Понта Эвксинского, там женился на скифянке. Так что мать Демосфена Клеобула была наполовину скифской крови. Потому-то Эсхин и называет его варваром, говорящим на эллинском языке.
Отец и мать Демосфена умерли рано, ему в то время было всего семь лет. Отец оставил ему и его сестре хорошее наследство. Но опекуны их богатство растратили.
В детстве Демосфен был таким слабым и болезненным, что даже не ходил тренироваться в палестру, как это делали все афинские мальчики. За то над ним и смеялись, прозвали его Батталом – неженкой и заикой. А Баттал – это был один флейтист из Эфеса. Он наряжался в женский наряд и выступал на сцене в женских ролях. Так вот Демосфена и прозвали Батталом за то, что он был изнеженный и слабый, как женщина.
В детстве ему удалось побывать на одном судебном процессе. К Демосфену был приставлен раб, который смотрел за ним. И он упросил этого раба отпустить его послушать знаменитого в то время афинского оратора. Раб отпустил его. И когда Демосфен послушал этого оратора, то уже забыть его не мог. С этих пор осталась у него неотступная мечта – научиться ораторскому искусству.
Когда Демосфен подрос, то пригласил к себе учителем опытного оратора Исса. А как только стал совершеннолетним, предъявил иск своим нечестным опекунам и сам выступил против них в суде. Судьи признали, что его требования законны и справедливы. И велели опекунам вернуть ему наследство.
Опекуны и не отказывались вернуть Демосфену его богатство. Но как вернешь, если все растрачено?
– Одно время, – рассказывала Ланика, – чтобы как-то прожить самому и сестре, Демосфен произносил судебные речи и этим зарабатывал. А нынче он стал политиком, вмешивается во все государственные дела Афин и пытается всем навязать свою волю.
– А не про него ли это говорили, что он картавый?
– Про него.
– Но как же он может произносить речи в народном собрании? Такого оратора в Афинах никто не будет слушать, его тотчас прогонят!
– А его и прогоняли. Со свистом. Как начнет картавить – букву «р» не мог выговорить, – да еще как начнет дергать плечом, тут его и гонят долой с трибуны!
– Но почему же слушают теперь? Или только потому, что он выступает против Филиппа?
– Теперь он больше не картавит. Рассказывают, что он ходил по берегу моря и, набрав в рот камушков, декламировал стихи. Добивался, чтобы даже и с камнями во рту речь его была чистой. И так усиливал голос, что даже морской прибой не мог его заглушить. Потом произносил речи перед зеркалом, смотрел, красивы ли его жесты. А чтобы не дергать плечом – люди очень смеялись, когда он дергался на трибуне, – так он подвесил над плечом меч, как дернется, так и уколется об острие!
Александр внимательно слушал рассказ Ланики, опершись локтями на ее колени.
– А Демосфен кто? – спросил он. – Демосфен – царь?
– Ну что ты? – засмеялась Ланика. – Какой там царь! Простой афинянин. Демократ.
– А кто такой демократ?
– Это человек, который думает, что все надо делать так, как хочет народ. А царей он ненавидит.
– И моего отца?
– А твоего отца ненавидит больше всех.
Маленький сын царя, наморщив округлые брови, задумался. Он не очень уяснил себе, о каком народе идет речь и чего добивается Демосфен, научившись хорошо говорить.
Но что Демосфен ненавидит царей и ненавидит его отца, это он понял. И запомнил на всю жизнь.
Александр уходит в Мегарон
Когда Александру исполнилось семь лет, его, по обычаю эллинов, увели от матери на мужскую половину дома.
Олимпиада была расстроена. Она расчесывала мальчику его тугие кудри, прихорашивала его. А сама все заглядывала в его большие светлые глаза – не блестят ли в них слезы, не таится ли печаль?
Но Александр не плакал, и печали в его глазах не было. Он нетерпеливо вырывался из рук матери, отмахивался от ее золотого гребня. Чтобы не расплакаться самой, Олимпиада пыталась шутить:
– Вот как ты собираешься в мегарон! Так же как Ахиллес, Пелеев сын, на бой собирался. Помнишь? От щита его свет достигал до эфира. А шлем сиял, как звезда. И волосы были золотые у него, как у тебя…
Но Александр, уже знавший наизусть все об Ахиллесе, Пелеевом сыне, на этот раз не слушал, что говорит мать. И Олимпиада с горечью поняла, что ребенок уходит из ее рук и просто не может дождаться той минуты, когда вступит, как взрослый мужчина, в отцовский мегарон.
За ним пришел Леонид, родственник Олимпиады. Она добилась, чтобы его взяли педагогом-воспитателем к сыну. Все-таки свой человек, через него Олимпиада будет знать, как живется в мегароне Александру.
– Прошу тебя, не мучьте его слишком в гимнасиях[8], – сказала она Леониду, и тот взглянул на нее с удивлением – так зазвенел ее голос от сдерживаемых слез, – он еще маленький. Вот возьми корзинку, тут сладости. Давай ему, когда он захочет полакомиться.
– Не могу ничего этого сделать, – ответил Леонид, – мне сказано: никаких уступок, никаких поблажек.
– Но ты спрячь, будешь потихоньку давать!
– А разве я один буду около него? Целая толпа воспитателей-педагогов. В тот же миг донесут царю. Нет, я буду воспитывать его, как подобает эллину, – чем суровей, тем лучше.
– Ну идем же! – Александр схватил за руку Леонида и потянул его к выходу. – Идем же!
Ланика, не выдержав, отвернулась и в слезах закрыла лицо покрывалом. Мать проводила мальчика до порога. И потом долго стояла под ливнем солнечных лучей, падавших сквозь отверстие в потолке.
Александр, не оглянувшись, ушел со своим воспитателем. Они пересекли солнечный двор и скрылись в синем проеме дверей мегарона.
Олимпиада знала, что этот день наступит, она с тайной тоской ждала его. И вот этот день наступил. Филипп отнял у нее сына, как отнял свою любовь. Но не наступит ли и такой день, когда она за все рассчитается с Филиппом?
Мрачная, со сдвинутыми бровями, Олимпиада вернулась в гинекей. Комнаты показались ей слишком тихими и совсем пустыми.
Служанки и рабыни затрепетали, когда она вошла к ним. Суровый блеск ее глаз не сулил добра. Разговор, которым они скрашивали время за работой, замер на устах. Только звенящий шелест веретен и постукивание набивок ткацкого стана слышались в большом низком помещении, полном людей.
Олимпиада придирчиво присматривалась к работам.
– Это что – нитка или веревка у тебя на веретене?.. А у тебя почему столько узлов? Что будет из такой пряжи – сукно или дерюга? Клянусь Герой, я была все время к вам чересчур добра!
Пощечина налево, пощечина направо, пинок, рывок… Олимпиада срывала свое горе на служанках как могла. Приказав отхлестать розгами молодую рабыню, которая показалась ей слишком заносчивой, Олимпиада немного успокоилась. Она позвала дочерей, игравших в мяч во дворе, и велела сесть за пряжу. Какими же хозяйками они будут в свое время и как могут спросить работу со своих рабынь, если сами ничему не научатся?
Вернувшись в спальню, Олимпиада уселась за пяльцы и принялась вышивать черную кайму на розовом пеплосе[9]. Теперь ее жизнь, ее заботы, ее мечты только в одном: давать работу служанкам, следить, чтобы они хорошенько ее выполняли, да и самой сесть за стан и выткать для мужа шерстяной плащ или, как сейчас, заняться своим нарядом, который уже никого не радует…
А мальчик, заполнявший собой все ее дни и ночи, ушел к отцу.
Александр и раньше не раз прибегал в мегарон. Но отец не хотел, чтобы мальчик видел его пьяные пиры, и приказывал тотчас увести ребенка обратно.
Теперь Александр вошел сюда по праву. Он шел, выпрямив спину, чтобы казаться повыше. Замедлял шаг, разглядывая грубые, покрытые копотью росписи на стенах. Подзывал собак, которые, войдя со двора, свободно бродили по залу в поисках какой-нибудь еды, – после пира под столом всегда можно было найти хорошую кость или недоеденный кусок.
В мегароне Александра ждали педагоги-воспитатели, обязанные смотреть за ним, обучать правилам поведения, тренировать его в гимнасиях. Каждый из них приветствовал Александра, каждый хотел понравиться ему. Особенно старался акарнанец Лисимах.
– Какой красавчик! Да какой крепкий! Ахиллес, да и только! Скоро, пожалуй, отправится в поход с отцом. Но если ты, Александр, Ахиллес, то я – твой старый Феникс. Ведь я так же приставлен к тебе – учить тебя и воспитывать. Знаешь, как великий Гомер написал в «Илиаде»?
…Там и тебя воспитал я таким, о бессмертным подобный! Нежно тебя я любил; и с другими никогда не хотел ты Ни на пирушку пойти, ни откушать чего-нибудь дома, Прежде чем я, на колени к себе посадив, не нарежу Мяса тебе на кусочки и кубка к губам не приставлю![10]
Так и я, как Феникс, готов служить моему богоравному Ахиллесу!
Другие воспитатели тоже хвалили Александра, стараясь незаметно утвердить свое влияние. Но никто не был так ловок в похвалах, как этот акарнанец, который, хотя и был грубым невеждой во всех остальных науках, знал Гомера и ловко играл на этом.
Александру все это льстило. Но он слушал их с невозмутимым лицом и с горделивой осанкой. Он сын царя. Его восхваляют, но это так и должно быть.
– Здравствуй! – сказал ему отец, только что проснувшийся после вчерашнего обильного вином ужина. – От Филиппа, царя Македонского, Александру привет!
У мальчика заблестели глаза от восторга.
– Царю Македонскому Филиппу от Александра привет! – живо ответил он.
Он весь вспыхнул, так что и лицо, и шея, и грудь его покраснели. Белокожий, он краснел мгновенно, будто охваченный огнем.
– Вот ты и мужчина. Учись бегать, плавать, стрелять из лука, метать диск, бросать копье. Делай все, что скажут педагоги. Клянусь Зевсом, мне нужен крепкий, сильный сын, а не какой-нибудь неженка!
И, обернувшись к Леониду, Филипп грозно напомнил:
– Никаких поблажек! Никаких уступок!
– А мне и не надо поблажек! – обидевшись, запальчиво сказал Александр. – Я сам пойду в гимнасий. Вот сейчас и пойду!
Филипп заглянул в светлые бесстрашные глаза сына и усмехнулся.
– Не сердись, – сказал он, – меня самого так учили. Так вот учил меня благородный Эпаминонд – без поблажек. Поэтому я теперь не знаю усталости в битвах, выношу самые тяжелые лишения в походах, бью врага сарисой[11] – и рука моя не слабеет, могу скакать на коне день и ночь без отдыха, а когда нужно – внезапно явиться перед неприятелем и разбить его с ходу!
– Я тоже буду скакать на коне и бить с ходу!
– Будешь. Потому что тебе придется сохранить все, что я теперь завоюю.
– Я все сохраню. И завоюю еще больше! Я буду как Ахиллес!
По крутым бровям Филиппа прошла тень. Олимпиада! Это ее рассказы!
– Не забывай, что македонские цари пришли из Аргоса, из страны Геракла, – сказал он, – и что сам ты потомок Геракла. Никогда не забывай об этом! Никогда!
Александр, пристально поглядев на отца, молча кивнул головой. Он понял.
Началась новая жизнь – среди мужчин, среди мужских разговоров и рассказов о минувших сражениях, о захваченных городах и о городах, которые следовало захватить…
Ни поблажек, ни уступок Александру не понадобилось. Крепкий, ловкий, азартный, он с наслаждением тренировался в палестре, бегал и прыгал, метал дротик, учился натягивать лук, который сделал Леонид ему по силам. Едва доставая до уздечки, он уже лез на лошадь, падал, сильно ушибался и только кряхтел от боли. Он раньше всех своих сверстников научился ездить на лошади. Самого еле видно из-за конской гривы, а скачет так, что педагоги чуть не падают от страха.
Если случайно кто-нибудь называл Александра ребенком, кровь бросалась ему в лицо, не помня себя он налетал на обидчика с кулаками, не задумываясь, справится с ним или получит хорошую сдачу. И случалось, что сдачу он получал. Но тогда распалялся еще больше, и остановить его было невозможно.
Педагоги не могли сладить с ним. Вспыльчивый, упрямый, Александр все делал как хотел, как находил нужным. И лишь тогда мог отказаться от задуманного, если ему умели объяснить, что задуманное им – плохо.
Скоро все окружающие уже знали, что с Александром можно ладить только разумными доводами, но не строгостью, не приказом.
Знал это и отец. Поглядывая на его синяки и царапины, Филипп усмехался себе в усы: «Александр, будущий царь Македонский! Эх, еще такие ли синяки придется тебе получать в жизни!»
В то время Филипп и Александр хорошо ладили друг с другом.
Но отец, как всегда, недолго гостил дома. И года не прошло, как снова по улицам Пеллы засверкали шлемы военных отрядов и лес копий тронулся к городским воротам. Снова за стенами города загрохотали осадные башни и тараны с медным бараньим лбом. Снова в широком царском дворе заржали и застучали копытами тяжелые боевые кони…
Александр стоял, прижавшись к теплой колонне портика, и смотрел, как садятся на коней этеры, друзья и полководцы, ближайшие соратники царя. Мужественные, загорелые в походах, привычные к непрерывным сражениям, разбоям и грабежам, они собирались на войну, как в обычный путь, спокойно и деловито проверяли вооружение, оправляли на конях попоны; ни седел, ни стремян всадники в те времена не знали.
Филипп прошел мимо, большой, широкоплечий. Ему подвели его рыжего коня под синей расшитой попоной. Филипп с привычной ловкостью вскочил на коня, который храпел и задирал гривастую голову. Филипп натянул узду, и конь сразу смирился.
Александр не спускал глаз со своего отца. Он ждал, что отец заметит его.
Но Филипп был уже чужим, суровым и грозным. Взгляд его под сдвинутыми бровями был устремлен куда-то далеко, в такую даль, которую еще было не постичь Александру.
Широкие ворота, хрипло заскрипев на петлях, отворились. Филипп выехал первым. За ним следом, будто сверкающий поток, устремились этеры. Все меньше и меньше их во дворе. А вот уж и нет никого, и ворота, прохрипев, закрылись. Сразу наступила тишина, только деревья чуть слышно шумели над крышей, роняя на прохладные камни первые желтые листья наступающей осени.
– Где мой Ахиллес? Твой Феникс ищет тебя!
Александр с досадой отпихнул кулаком Лисимаха. Молча, сжав дрожащие губы, он направился в палестру. Там играли в мяч его сверстники, дети знатных македонян. Высокий, стройный мальчик Гефестион тотчас подбежал к нему:
– Будешь играть с нами?
Александр проглотил слезы.
– Конечно, – ответил он.







