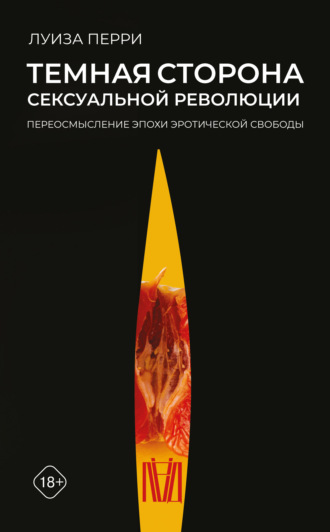
Луиза Перри
Темная сторона сексуальной революции. Переосмысление эпохи эротической свободы
Что не так с сексуальным либерализмом
В «Антигоне» Софокла – пьесе, уделяющей особое внимание теме долга и страданий женщины, – хор поет, что «ничто большое не входит в жизнь смертных без проклятия». Влияние противозачаточных таблеток на общество было огромным, и даже теперь, спустя два поколения, мы все еще не до конца осознали ни их благодать, ни их проклятие. В истории человечества было немало периодов смягчения сексуальных норм. Наиболее известные случаи – поздняя Римская империя, георгианская Британия и «бурные двадцатые» в Америке. Однако эти фазы распущенности были ограничены отсутствием хороших противозачаточных средств, в силу чего гетеросексуальные мужчины в поисках внебрачного секса в основном были вынуждены довольствоваться либо проститутками, либо немногочисленными чудачками, готовыми пойти на риск пожизненного изгнания из респектабельного общества. Например, участники Блумсберийского кружка, которые, как известно, «lived in squares and loved in triangles»[24], вступали в многочисленные тайные сексуальные контакты, результатом чего было множество незаконнорожденных детей, и были спасены от нищеты только благодаря привилегиям своего класса.
Но сексуальная революция 1960-х – в отличие от своих предшественниц – не сошла на нет. Напротив, мы до сих пор живем в пространстве ее идеологии. Более того, эта идеология до такой степени превратилась в норму, что сегодня мы едва можем ее различить. Но как же она смогла выдержать испытание временем? Дело в том, что вместе с ней впервые в мировой истории были изобретены надежные средства контрацепции и, в частности, формы контрацепции, которые были доступны для самостоятельного использования женщинами: противозачаточные таблетки, вагинальные диафрагмы, а также последующие технологические усовершенствования, такие как внутриматочная спираль (ВМС). Таким образом, в конце 1960-х возникло невиданное живое существо: фертильная молодая женщина, репродуктивные возможности которой фактически заморожены. И это изменило все.
Данная книга представляет собой попытку отдать отчет в этих изменениях, избегая как либеральных объяснений, очарованных прогрессом, так и консервативных, провозглашающих новый упадок общества. Я не думаю, что последние шестьдесят лет следует понимать исключительно как период прогресса или как период деградации. Сексуальная революция не освободила всех нас, но она освободила некоторых из нас – выборочно и за определенную цену. Это именно то, чего мы должны ожидать от любой формы «больших» социальных изменений, и сексуальная революция, безусловно, является таковой. И, хотя моя работа направлена в том числе против консервативного нарратива об эпохе после 1960-х, и в особенности против тех консерваторов, которые достаточно глупы, чтобы думать, что возвращение в 1950-е возможно или желательно, основной целью моей критики является либеральный нарратив о сексуальном освобождении, который я считаю не только ложным, но и вредным.
Мое недовольство адресуется в большей степени либералам, чем консерваторам, по очень личной причине – раньше я сама верила либеральному нарративу. Будучи молодой девушкой, я придерживалась тех же политических взглядов, что и большинство других горожан-миллениалов, окончивших университеты на Западе. Другими словами, я соответствовала убеждениям своего класса, включая либеральные феминистские идеи о порнографии, БДСМ, культуре свободных отношений, эволюционной психологии и торговле сексуальными услугами – эти темы будут рассмотрены в данной книге. Мой собственный жизненный опыт заставил меня отказаться от этих убеждений, включая период сразу после окончания университета, когда я работала в кризисном центре для жертв изнасилований. Если старая шутка говорит нам, что «консерватор – это просто либерал, которого поимела реальность», то я полагаю, что, по крайней мере в моем случае, «постлиберальная феминистка – это просто либеральная феминистка, которая своими глазами увидела реальность мужского насилия».
Термин «либеральный феминизм» не является самоназванием соответствующего направления феминизма. Обычно его сторонницы называют себя «интерсекциональными феминистками». Тем не менее я не думаю, что их идеология действительно является интерсекциональной (если исходить из первоначального смысла этого слова у Кимберли Креншоу), поскольку она должным образом не включает в себя анализ других форм социальной стратификации, особенно анализ экономического класса. Преимущество использования термина «либеральный феминизм» состоит в том, что он помещает идеи двадцать первого века в русло более длительной интеллектуальной истории, позволяя увидеть, что в лице либерального феминизма мы имеем дело с итерацией гораздо более грандиозного интеллектуального проекта: либерализма.
Что касается определения «либерализма», то это дискуссионный вопрос. Так, первая строка статьи в Стэнфордской энциклопедии философии гласит, что «не существует какого-то одного либерализма». Это означает, что какое бы определение я для себя ни выбрала, все равно найдутся недовольные критики. Но поскольку я не хочу утомлять читателей многословной защитой моего рабочего определения, я обойдусь несколькими замечаниями.
Я очень далека от того, чтобы использовать слово «либерал» как сокращение от «левого крыла». Американский постлиберальный политический теоретик Патрик Денин указывает на тесную связь экономического и социального либерализма. Либеральная культурная элита и либеральная корпоративная элита работают рука об руку: «Сегодняшняя корпоративная идеология имеет сильное сходство с образом жизни тех, чьими приоритетами являются мобильность, этическая гибкость, либерализм (будь то экономический или социальный), потребительский менталитет, в котором выбор имеет первостепенное значение, и “прогрессивное” мировоззрение, в котором быстрые изменения и “созидательное разрушение” являются единственным основанием для уверенности»[25].
Постлибералы, такие как Денин, обращают внимание на издержки социального либерализма – политического проекта, который стремится освободить людей от внешних ограничений, налагаемых местожительством, семьей, религией, традицией и даже (что наиболее важно для феминисток) человеческим телом. В этом смысле постлибералы согласны со многими социальными консерваторами. Однако помимо этого они критически относятся к другой стороне либеральной медали – идеологии свободного рынка, которая стремится освободить людей от всех этих ограничений, чтобы максимизировать их способность работать и потреблять. Атомизированный работник, не привязанный к какому-либо месту или людям, великолепно справляется с тем, чтобы быстро реагировать на требования рынка. Этот идеальный либеральный субъект способен ехать куда угодно, где можно заработать, потому что его ничего не держит на одном месте; он может выполнять любую работу, которую от него попросят, без каких-либо моральных возражений, проистекающих из веры или традиции; в отсутствие супруга или семьи, о которых нужно заботиться, ему незачем требовать дни отдыха или гибкий график. И тогда на деньги, заработанные лишенным всякой укорененности трудом, он сможет прикупить себе какую-нибудь новую вещицу, которая заглушит любое ощущение несчастья, тем самым подпитывая экономический двигатель с максимальной эффективностью.
Либеральный феминизм принимает эту рыночно ориентированную идеологию и применяет ее к специфически женским проблемам. Например, когда в 2017 году актрису и активистку Эмму Уотсон раскритиковали за то, что ее обнаженная грудь появилась на обложке «Вэнити фэйр», она отбивалась, повторяя заезженную фразу либеральных феминисток: «Феминизм заключается в том, чтобы дать женщинам выбор… Речь идет о свободе»[26]. Для либеральных феминисток вроде Уотсон это может означать свободу носить откровенную одежду (и в процессе продавать множество журналов), свободу торговать сексуальными услугами, снимать или смотреть порно или же строить любую другую карьеру на свой вкус, как это делают мужчины.
При наличии правильных инструментов свобода от ограничений, налагаемых женским телом, становится все более возможной. Не хотите иметь детей в двадцать или тридцать лет? Заморозьте яйцеклетки. Вызвали в командировку после родов? Отправьте грудное молоко для своего малыша по почте. Хотите продолжать работать полный рабочий день без перерыва? Наймите няню с проживанием или, что еще лучше, суррогатную мать, которая сможет выносить ребенка вместо вас. А теперь, когда появились медицинские технологии по смене пола, стало возможным и вовсе покинуть женское тело. Либеральный феминизм обещает женщинам свободу, а когда это обещание сталкивается с жесткими ограничениями, налагаемыми биологией, эта идеология направляет женщин на устранение этих ограничений с помощью денег, технологий и тел более бедных людей.
Я не отвергаю стремление к свободе – я не сторонница антилиберализма. Ей-богу, у женщин есть все основания испытывать раздражение по поводу ограничений, налагаемых на нас нашим обществом и нашим телом, – как в прежние времена, так и в современном мире. Но я критически отношусь к любой идеологии, которая не способна достичь баланса между свободой и другими ценностями. Кроме того, я критически отношусь к неспособности либерального феминизма задаться вопросом, откуда происходит наше стремление к определенному типу свободы, а именно к свободе выбора, слишком часто вращающейся в порочном логическом кругу, согласно которому выбор женщины хорош, поскольку она его выбирает (подобно тому как Шарлотта Йорк из «Секса в большом городе» вопит: «Я выбираю свой выбор, я выбираю свой выбор!»).
В этой книге я намереваюсь задать некоторые вопросы о свободе, на которые либеральный феминизм не может или не хочет отвечать (и попытаюсь ответить на них). Почему так много женщин желают сексуальной свободы, которая столь явно служит интересам мужчин? Что, если наши тела и разум не так пластичны, как нам хотелось бы думать? Что мы теряем, когда ставим свободу превыше всего? И, самое главное, как нам следует действовать в связи со всем этим?
Некоторые из моих выводов могут не обрадовать, поскольку они касаются жестких ограничений нашей свободы, которые невозможно преодолеть, как бы мы ни старались. Моей отправной точкой будет позиция, которая исторически часто была источником дискомфорта для феминисток всех идеологических убеждений: я принимаю тот факт, что мужчины и женщины – разные, и что эти различия невозможно обойти. И если мы признаем эти границы и эти различия, наша сексуальная политика примет направление, отличное от сегодняшнего мейнстрима. Вместо того чтобы спрашивать: «как мы все можем быть свободными?», мы должны спросить: «как мы можем наилучшим образом содействовать благополучию как мужчин, так и женщин, учитывая, что эти две группы имеют разные интересы, которые иногда противоречат друг другу?»
Сексуальное расколдовывание
В этой книге я намереваюсь доказать, что западная сексуальная культура двадцать первого века далека от того, чтобы должным образом уравновешивать эти интересы. Вместо этого она продвигает интересы Хью Хефнеров со всего света, а платить за это должны женщины вроде Мэрилин Монро. При этом в силу влияния либерального феминизма слишком многие женщины не осознают эту истину, беспечно принимая за чистую монету заявление Хефнера о том, что все недостатки новой сексуальной культуры – всего лишь «небольшая цена за личную свободу».
Этот расклад очень подходит людям наподобие Хефнера: новая сексуальная культура играет на руку таким плейбоям. В их интересах продвигать особенно радикальные представления о сексе, возникшие в результате сексуальной революции и оказавшиеся чрезвычайно влиятельными, несмотря на их вред. Согласно этим представлениям, секс – не что иное, как форма досуга, наделенная особым значением только в том случае, если так решили партнеры. Сторонники такого взгляда утверждают, что секс сам по себе не является чем-то уникальным, что он по своей сути не отличается от любого другого вида социального взаимодействия и что поэтому его можно без каких-либо проблем превратить в товар. Социолог Макс Вебер говорил о «расколдовывании» мира природы, которое произошло в результате Просвещения. Господство рациональности не оставило места для магического восприятия мира, которое было присуще обитателям «зачарованного сада» в эпоху, предшествующую модерну. Примерно так же произошло расколдовывание секса[27] на Западе после 1960-х годов, оставив нам общество, которое (якобы) считает, что секс не имеет какого-то особого значения.
Сексуальное расколдовывание является естественным следствием либерального превознесения свободы над всеми другими ценностями. Если вы хотите быть полностью свободным, то ваша мишень – любые ограничивающие вас социальные ограничения, и особенно вера в то, что секс обладает какой-то уникальной, неуловимой ценностью, чем-то таким, что с трудом поддается рационализации. Кроме того, из этой веры в исключительность секса проистекает множество потенциально нежелательных явлений, включая патриархальные религиозные системы. Однако когда мы пытаемся расколдовать секс и, таким образом, стремимся убедить себя, что данный конкретный половой акт не является ни исключительно прекрасным, ни однозначно насильственным, тогда возникают издержки совсем другого рода.
По биологическим причинам, к которым я вернусь в следующей главе, эти издержки непропорционально ложатся на плечи женщин. Либеральные феминистки, как кажется, тоже признают это, о чем свидетельствует популярность движения MeToo, которое не на шутку развернулось в 2017 году. Это излияние гнева и стенаний было свидетельством того, что нынешняя сексуальная культура не устраивает женщин. Истории, вышедшие из MeToo, сообщали о многих однозначно преступных поступках. Но помимо этого многие женщины рассказали о сексуальных контактах, которые технически состоялись по обоюдному согласию и, тем не менее, вызвали у них ужасные чувства, поскольку их принуждали не придавать смысл тому, что, на их взгляд, имело смысл. Секс с боссом как условие продвижения по службе… Свидание, на котором от женщины ожидается, что она «вернет должок», когда мужчина заплатит за ужин… В обоих случаях мужчины охотно принимают принцип сексуального расколдовывания, рассматривая секс как ничего не значащий продукт для свободного рыночного обмена («Ты мне отсасываешь, я даю тебе товар эквивалентной стоимости»). Вот, например, что одна студентка написала о сексуальной связи со своим сверстником:
Он скользнул внутрь меня, а я ничего не сказала. Сама не знаю почему. Может быть, я не хотела думать о том, что, возможно, сама его соблазнила. Может быть, я не хотела его разочаровывать. Может быть, я просто не хотела играть в словесное перетягивание каната типа «– Давай сделаем это! – Но нет, мы не должны…», как это часто бывает перед тем, как переспать с кем-то. Было проще просто сделать это. Кроме того, мы уже были в постели, а это то, чем занимаются люди в постели. Я чувствовала обязательство, что я должна пройти через это. Я чувствовала себя виноватой за то, что не хотела этого. Я не была девственницей. Это не мой первый раз. Это не должно было иметь большого значения – это всего лишь секс, – поэтому я не хотела делать из этого проблему[28].
Фраза «это всего лишь секс» превосходно резюмирует идею сексуального расколдовывания. Эта девушка не была избита, она не забеременела, и в действительности ей даже нравился молодой человек, с которым она занималась сексом, по крайней мере поначалу. Так почему же она восприняла этот сексуальный контакт как нечто важное? Потому что идея сексуального расколдовывания на самом деле не соответствует действительности, и мы все знаем об этом – включая либеральных феминисток, которые тратят так много сил, чтобы доказать, к примеру, что «секс-работа – это тоже работа». Ведь когда стало известно, что Харви Вайнштейн предлагал женщинам карьерные возможности в обмен на сексуальные услуги, те же самые либеральные феминистки немедленно осудили его – не только за принуждение и угрозы, которые он использовал в ходе совершения своих преступлений, но прежде всего за то, что он требовал от своих работниц заниматься с ним сексом.
Таким образом, движение MeToo показало, что интуитивно люди понимают, что просить у работника заняться сексом с боссом – совсем не то же самое, что просить его поработать сверхурочно или сварить кофе. В прошлом я неоднократно готовила кофе для моих работодателей, несмотря на то что приготовление кофе не входило в мои должностные обязанности, и я уверена, что большинство читателей сделали бы то же самое. И хотя иногда такая просьба может раздражать, ни один работник, который готовит кофе для своего босса, не будет опасаться того, что в результате он попадет в зависимость от наркотиков или алкоголя. Или того, что он забеременеет или заразится болезнью, вызывающей бесплодие. Или что он пострадает от посттравматического стрессового расстройства или другого психического заболевания. Что он навсегда станет неспособным иметь здоровые интимные отношения. Всем известно, что заниматься сексом – это не то же самое, что варить кофе, и, когда идеология сексуального расколдовывания требует, чтобы мы делали вид, что это не так, результатом может стать болезненная форма когнитивного диссонанса.
И этот диссонанс не может быть преодолен средствами, которые есть в арсенале либеральных феминисток. Например, в разгар MeToo Джессика Валенти из «Гардиан» писала о сексуальном насилии, которое по закону не считается изнасилованием: «Это правда, что женщины сыты по горло сексуальным насилием и домогательствами. Но верно и то, что в этой культуре “нормальным” считается сексуальное поведение, которое часто является вредным для женщин, и мы также хотим положить этому конец»[29]. Однако антология либерально-феминистских эссе на тему MeToo, подготовленная Валенти и опубликованная в 2020 году, демонстрирует неспособность либерального феминизма должным образом работать с поставленной проблемой[30]. Все авторы сборника хотят, чтобы сексуальное насилие прекратилось, и это можно только приветствовать. Но в то же время они проявляют нерешительность в вопросе использования государственной власти для ареста насильников и их заключения в тюрьму. Также они отказываются требовать от женщин изменить свое поведение, чтобы предотвратить встречу с опасными мужчинами – даже упоминание этой возможности рассматривается ими как «перекладывание вины на жертву».
Вместо того чтобы предложить альтернативы – может быть, сойдет самосуд? – авторы вообще избегают работы со сложными вопросами, ограничиваясь беззубыми идеями вроде помощи мужчинам в преодолении «неуверенности в своей мужественности» (Тахир Дакетт) или создания общественных пространств, в которых преступники могут найти «исцеление и справедливость» (Сара Дир и Бонни Клермонт). Авторы вроде активистки Андреа Линн Пино-Сильвы пишут о необходимости «всерьез говорить о прекращении сексуального насилия», но не предлагают ничего более конкретного, чем образовательные воркшопы в университетских кампусах, которые, помимо других их заслуг, «прославляют квирность и расширяют ее права и возможности». Пино-Сильва полагает, что такие воркшопы не сработают, если они не займутся всеми формами угнетения, которые только существуют на свете – от колониализма до бифобии. Что касается меня, то я не верю, что эти воркшопы вообще будут работать, так что, думаю, это пункт, относительно которого мы можем прийти к согласию.
Некоторые авторы не только отвергают идеи, которые могли бы каким-то образом продвинуть нас в решении проблемы сексуального насилия, но и выступают с предложениями, которые только усугубят ее. Сассафрас Лоури призывает переживших изнасилование женщин искать сексуальных партнеров со склонностью к насилию в БДСМ-сообществах, тогда как Тина Хорн представляет проституцию как благодатный карьерный путь для молодых женщин. Это – центральный принцип либерального феминизма, доведенный до его логического завершения: женщина должна иметь возможность делать все, что ей нравится, будь то торговля своим телом или добровольное подвержение себя насилию. Как может быть иначе, если все ее желания и ее выбор с необходимостью хороши, независимо от того, откуда они исходят и куда ведут? А если из следования этому принципу выходит что-то плохое, то мы возвращаемся к единственному решению, которое может предложить либеральный феминизм: «учить мужчин не насиловать женщин».
Но могут ли либеральные феминистски посоветовать что-то помимо этого? Они совершили ошибку, купившись на идеологию, которая всегда служила людям вроде Хью Хефнера и унаследовавшего его дело Харви Вайнштейна. Эта идеология внушает им ложное убеждение, что женщины все еще страдают исключительно потому, что проект сексуального освобождения 1960-х годов не был завершен, а вовсе не потому, что с ним с самого начала было что-то не так. Таким образом, в качестве рецепта они предлагают еще больше свободы и постоянно недоумевают, почему их лекарство не работает.
Этот факт становится очевидным, когда мы смотрим на университетский кампус двадцать первого века, где громче всего проповедуется евангелие сексуального освобождения и где БДСМ-сообщества[31] и «Недели секса»[32] стали новой нормальностью[33]. В начале семестра первокурсникам читают лекцию о важности согласия и отправляют в добрый путь с бейджами «Согласен от всего сердца». Их учат очень простому правилу: по взаимному согласию можно все. И это простое правило нарушается снова и снова – как через изнасилование, так и через более тонкие формы принуждения, о которых так много женщин рассказывали во время MeToo. Немногие либеральные феминистки готовы провести связь между культурой сексуального гедонизма, которую они продвигают, и опасениями по поводу изнасилований в университетских кампусах, хотя эти явления возникли в одно и то же время.
Если бы они это сделали, то, вероятно, были бы вынуждены признать свою вину за ситуации, в которых не вполне трезвые молодые девушки оказываются наедине с похотливыми мужчинами, которые – мало того, что они больше и сильнее своих ровесниц, – скорее всего, были воспитаны на порно, нормализующем агрессию, принуждение и боль. Но в либеральных феминистских кругах нельзя говорить о пагубном влиянии онлайн-порнографии, БДСМ, культуры свободных отношений и любых других элементов нашей новой сексуальной культуры, поскольку это означало бы подвергнуть сомнению доктрину сексуальной свободы. Таким образом, молодые девушки вынуждены на своем собственном опыте учиться тому, что свобода имеет свою цену. И каждый раз этот опыт оказывается горьким.


