Серия «Серия исторических романов»
Серия включает 76 книг

000
добавлено 2018-10-15 14:03:02
Великий князь Иван III отправляет большую рать на Каяно-озеро, самый север Балтики, чтобы вернуть под свою государеву ру...

000
добавлено 2018-08-02 15:37:24
Легенда о Нельской башне – одна из самых страшных загадок французской истории. Говорят, что во времена правления сына Же...

000
добавлено 2018-03-19 13:25:26
Париж, 1314 год. На французском троне король Людовик X Сварливый, бездарный правитель из династии Капетингов, отдавший в...
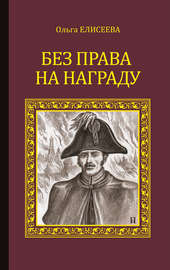
000
добавлено 2018-02-07 07:59:40
Кровавая гроза 1812 года. В России созданы первые партизанские отряды – летучие корпуса – общевойсковые соединения, дейс...

000
добавлено 2018-02-13 19:36:17
XVII век. Франш-Конте, главное яблоко раздора европейских держав, отошло к испанской короне. Жители вольного графства с ...

000
добавлено 2017-09-21 17:48:36
Япония XVI века. Юный Гоэмон, ученик мастера ниндзюцу, мечтает совершить подвиг и стать настоящим синоби – «тем, кто кра...

000
добавлено 2017-09-13 11:40:22
1807 год. Только что бесславно закончилась очередная военная кампания против «неистового корсиканца». Подписан позорный ...

000
добавлено 2017-05-31 15:26:42
Рим, II век нашей эры. В годы правления Траяна империя достигла небывалой мощи и величия, распространив свое владычество...

000
добавлено 2016-10-17 17:44:39
Роман В. Москалева «Гугеноты» представляет собой подробное изложение сложных, противоречивых, порой невероятных событий,...

000
добавлено 2016-10-17 17:40:27
Казаки были лучшими воинами всех эпох, в которых им выпадало жить. Наполеон говорил, что с казаками он бы завоевал весь ...

000
добавлено 2016-09-06 18:57:03
1410 год. Только что над Русью пронеслась очередная татарская гроза – разорительное нашествие темника Едигея. К тому же ...

000
добавлено 2016-09-27 14:34:28
1825 год. Карбонарии, члены тайного общества итальянских патриотов, ведут борьбу за свободу полуострова. Их широко разве...

000
добавлено 2016-09-27 14:35:25
Рим, 9 год нашей эры. На престоле могущественной империи восседает жестокий и бескомпромиссный Тиберий. Перед ним в стра...

000
добавлено 2016-08-31 10:53:27
Капитан Уильям Кидд (1645–1701) – величайший пират Индийского океана – когда-то мечтал о тихой, спокойной жизни. Однако ...

000
добавлено 2016-02-05 00:01:18
Имя Василия Владимировича Веденеева давно и хорошо известно всем любителям историко-приключенческой литературы. Он – авт...

000
добавлено 2016-02-05 00:07:27
Великая французская революция 1789 года вызвала череду войн по переделу Европы, продолжавшихся более двух десятилетий. В...

000
добавлено 2016-01-07 20:33:31
В XVIII веке балетная труппа Большого Каменного театра в Санкт-Петербурге жила так же, как и в наше время: интриги, ссор...

000
добавлено 2016-01-25 12:35:00
Летом 1812 года почти 600-тысячная армия Наполеона тремя колоннами вторглась на территорию Российской империи. Целью Сев...
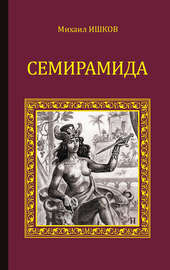
000
добавлено 2016-01-17 17:10:45
Для напоминания о великом прошлом боги как-то раз послали на Землю деву-воительницу, задолго до Александра Македонского ...
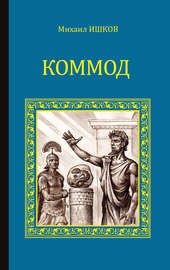
000
добавлено 2016-01-15 18:06:56
В истории трудно отыскать более простодушного, даже в каком-то смысле наивного губителя соплеменников, чем римский импер...
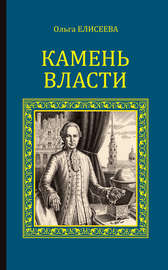
000
добавлено 2016-01-05 15:27:07
В далеком Париже маг и вечный скиталец граф Сен-Жермен показывает своим покровителям, Людовику XV и маркизе Помпадур, уд...

000
добавлено 2015-07-27 15:52:59
1239 год. Козельск пал, но некоторым его защитникам и жителям все же удалось спастись, укрыться в непроходимых лесах. Уц...




