
Литературно-художественный журнал
Российский колокол № 7–8 (44) 2023
Слово редактора

Анна Боровикова и. о. шеф-редактора, прозаик и поэт, член Интернационального Союза писателей
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Завершается очередной литературный год с журналом «Российский колокол».
Но итоги подводить рано, потому что их нет и быть не может. Как говорил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: «Литература изъята из законов тления. Она одна не признаёт смерти». В справедливости этого высказывания можно убедиться, в том числе познакомившись с произведениями данного сборника.
В разделе «Современная поэзия» собраны разноплановые стихотворения, отражающие внутренний мир каждого из авторов. Патриотические и вместе с тем душевные стихи Татьяны Велес каждой строчкой говорят о настоящей большой любви к Родине.
Произведения Ксении Воротковой настраивают на иной лад, лирический. Отношения, чувства, красота природы – всё это как прогулка по закоулкам памяти.
Писатель Сергей Камаев представил избранные главы из поэмы «Козельск» о героическом прошлом городка в Калужской области, его противостоянии хану Батыю.
Олег Шухарт предлагает порассуждать о серьёзном с философской точки зрения.
В «Современную прозу» вошли труды различных ярких и талантливых авторов.
Трагедия отдельно взятого человека – в обрывочных воспоминаниях о детстве, военных действиях в Чечне и параллелях с реальной жизнью. Куда шёл? Чего достиг? В повести Юлии Вербы (Артюхович) «Адреналин».
Также чеченские события и мужество военных показаны в творчестве Александра Пономарёва – в рассказах «Скала» и «Наш принцип».
О превратностях судьбы жителей на контрасте с восприятием окружающего мира больного человека с большим сердцем повествует Ирина Горбань из Макеевки в рассказе «Вовкина любовь».
Владимир Журавлёв в произведении «На графских развалинах» возвращает к историческому прошлому. Рассказ умирающей старушки оживляет события перед Октябрьской революцией, в последней строчке намекая, что речь в повествовании шла о родовом гнезде известного писателя.
Наглядно о равнодушии, казалось бы, родных людей в рассказе «“Безутешные” родственники» и поворотах жизненного пути в литературной среде в произведении «Классики» автора из Беларуси Анны Лео.
Краснодарский автор Александр Ралот в произведении «Прародитель» рассказывает интересную историю об испанском еврее, заброшенном на другой континент, о том, как он жил среди индейцев майя и какой нации стал родоначальником.
«Душной ночью в Душанбе» Александра Рязанцева – история-фантазия, в которой объединены персонажи настоящего и прошлого. Какое же время истинное? Читателям предоставлена возможность разобраться самостоятельно.
Сёсик Быф в новелле «Шальная пуля» возвращает к событиям Великой Отечественной войны, показывая их глазами немцев. И, как в любом произведении этого жанра, развязка совершенно неожиданна.
Очередные главы из новой книги Владимира Голубева об истории развития литературной сказки в творчестве русских писателей XX века в разделе «Литературоведение».
Дорогие читатели, приятного погружения в мир слов, образов, смыслов!
Современная поэзия
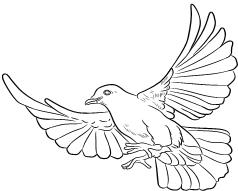
Татьяна Велес (Куликова)
Берёзовая роща
Зима. Сорок пятый. Морозы. Путь долгий.
Солдатик с войны добирался домой.
Был ранен не раз и теперь одноногий
В деревню спешил он к жене молодой.
А вьюга лютует и водит по кругу,
И волчий доносится жалобный вой.
А он представляет, как встретит супругу
И скажет: «Ну, здравствуй. Живой я, живой».
Вот лес, вот речушка, вот холмик знакомый,
И только деревни не видно, в снегу
Стоят лишь остатки от милого дома.
Не стала семья покоряться врагу.
Сожгли деревушку, сараи и хаты,
Детей, стариков не щадила война.
Терзала солдатика горечь утраты,
И в клочья в груди разорвалась душа.
Он в снег на колени упал, проклиная
Войну, и фашистов, и свет голубой,
Не плакал – рыдал, всех своих вспоминая,
Судьбу свою клял, что остался живой.
А вьюга лютует и водит по кругу,
И волчий доносится жалобный вой.
И, голос срывая, он кличет супругу:
– Ответь мне, любимая. Здесь я, живой…
Уж время прошло, и метели, и грозы,
Старик одноногий свой дом поднимал.
На месте деревни стояли берёзы,
И он их любовью своей окружал.
Он дал имена им всех живших когда-то:
Соседей, друзей деревеньки своей,
И с каждой болтал, иногда до заката,
Всё чаще о прошлом, до тех страшных дней.
Я русская!
Я русская! И этим я горда!
Живу на славной Родине, в России!
Всё здесь моё: и реки, и луга,
И степи под огромным небом синим.
Мой дом, семья и вся моя родня,
Мои друзья – кавказцы и калмыки,
Луганск, Донбасс – и это всё моя,
Моя Россия с Богом и Владыкой.
В моей крови и Пушкин, и Дантес,
В моей душе калмыцкие напевы.
Есть честь во мне, и стержень во мне есть,
Дух русский, что вскипает в страшном гневе.
Никто! Запомните! Никто не отберёт
Мой разум, честь и вековую силу!
Никто! Запомните! И знайте наперёд:
Я жизнь отдам за матушку Россию!
Ксения Вороткова
«Тёмный пурпур небесного свода…»
Тёмный пурпур небесного свода
Был усеян гирляндами звёзд.
Отдыхала у моря погода,
Поднимала за здравие тост.
А луна, заливая долину
Серебристым сияньем своим,
Дополняла благую картину,
Что в сознанье годами храним.
Мы лежали на мягкой перине
В тусклом свете церковной свечи.
Мягко тени прошлись на сатине
Да плясали пред нами в ночи.
Колесо закрутилось Сансары
В голове, предвещая финал.
Мне припомнились прошлые пары,
Что когда-то я сам создавал.
Отношенья, что бурно менялись
От любви до проклятья порой,
Словно ядом обид заполнялись,
Отнимали душевный покой.
Не срослось, не случилось. Недаром.
Встреча наша была впереди.
И поддался теперь дивным чарам,
Как ты спишь у меня на груди.
Ветер робко по морю стелился,
Ожидая рассвета лучи.
Я с луною на время простился.
Догорел фитилёк у свечи.
«Глубокая небесная лазурь…»
Глубокая небесная лазурь
Подчёркнута седыми облаками.
О, как хорош засушливый июль.
На пляже загораю под лучами.
А лес из мачт, у пирса притаясь,
Мне шлёт привет своими парусами.
Клекочут чайки, над людьми смеясь,
Изящными летая кружевами.
И море возмущает ветерок,
Стеснительно парящий над горами.
Там вместе с эхом он не одинок.
Они так дружат долгими веками.
Моих ступней касается волна,
Неся прохладу, свежесть и заботу.
Я наслаждаюсь этим днём сполна.
Душа как будто обрела свободу.
В единое с природою слилась,
Чтоб ощутить всю прелесть мирозданья.
На милость чувствам ярким отдалась,
Впитала красоты очарованье!
Мгновенья эти вспомню я зимой,
Чтоб их тепло меня согрело в стужу.
Припомню пляж и ласковый прибой,
Собравшийся в причудливую рюшу.
Берёза
В чистом поле выросла берёза,
Словно бы маяк у моря ржи.
Наблюдаю я за ней с утёса.
Как ты оказалась тут, скажи?
Ветер её веточки колышет,
Всё пытаясь до земли согнуть.
Не сломать того, кто жизнью дышит.
Не боится деревце ничуть.
Вся стоит на золотой перине,
Белая с зелёною листвой.
Устремившись, словно бы к вершине,
Гордо к солнцу кроною густой.
И порой я словно та берёзка
В золоте некошеных полей.
Жизнь живу открыто, хоть неброско,
И иду с надеждой по земле.
Сергей Камаев
Избранные главы из поэмы «Козельск»
Часть 7
Вот утро майское настало… – Моё уж воинство устало ждать, как появится монгол. – Пора б разбить их да за стол победный с братьями садиться.
– Смотри-ка, воевода, птицы из леса ближнего летят, – сказал Всеслав. – Врагов отряд к вратам Козельска подступает.
– Трубить тревогу! Наступает великий, красочный итог! – О воины! Настал наш срок! – Не посрамим теперь Отчизны!!! – И отдадим без страха жизни, чтобы враг спасался со всех ног и был разбит на поле брани!!!
Монголы стройными рядами неслись на город… Кони ржут, наездники их погоняют… И, на ходу несясь, стреляют в козельский православный люд…
Арбы за ними и повозки, чтобы засыпать ров, взять мост им, добраться до козельских стен… – Ребята!!! – Стрелы!!! – Бей их!!! – Всем!!! – Cтрелять в монголов без приказа!!!
И сотни стрел тотчас же, сразу, вонзились в ближние тела… Разили. Тьма врагов нашла свою суровою погибель у стен Козельска. Мощный ливень от города вмиг отступил, чтобы набраться новых сил и вновь ударить по «урусам».
Часть 8
Прошла неделя… Но на русов пока никто не нападал… – От скуки я, Всеслав, устал, – ворчал сердито воевода. – К тому ж ещё тут непогода, дождь поливает день и ночь. – Ушли б они отсюда прочь, и нам тут было бы спокойней…
– И кончилась бы сразу бойня! – И началась – другая жизнь! – Дела мирские и заботы… – Коль так случилось бы, так что ты всенепременно б делать стал? – Женился б я! – Ведь слово дал своей невесте Милославе.
– Вот только сбудутся едва ли твои заветные мечты… – Вон глянь, колышутся кусты, монголы к нам чего-то тащат. – Буди ребят, глаза таращить с тобой мы будем опосля… Всеслав предчувствовал не зря, набег сегодня, Воеводу на стены в эту непогоду нарочно он сейчас позвал.
– Монголы заслонили вал почти что полностью – арбами, телегами, хламьём, кустами и всем ненужным барахлом. – Так что сегодня напролом они на нас, наверно, двинут. – Пусть двигают. На их я спины хочу сегодня посмотреть. – И то, о чём монголы петь на тарабарском нынче будут.
– Мы зададим им жару!!! – Люди устали их сейчас терпеть.
Часть 9
Ожила степь… Покрылась лёгкой пеленою бойцов-монголов… Они строем опять на штурм вели коней… Да ладно было б что людей… Они пустились на равнину… В кустах – осадные машины!
И камни – глыбы! Их вершины со всех сторон заострены! – Да, если б не было войны, то я б подумал, это пашню пахать готовят этой башней, похожей на кусок луны, – промолвил Воевода тихо.
– Гляди, ребята, будет лихо с врагом сегодня воевать. Но наша доблестная рать не уступает этой силе… Монголы башню зарядили… Ударили! Слегка побили у стен растущие кусты.
И снова выстрел… Прямо в стену! Пробита брешь, как будто вену слегка надрезал острый меч… Монголы снова рвутся в сечь. И вновь орудье пробивает огромным камнем, вышибают стены острённые зубцы…
Монголы лихо под уздцы ведут коней своих в могилу… Туда кидаются бойцы и рубят смело вражью силу. Да так умело! Так красиво! Что те назад несутся вскачь…
Да, полоса пока удач колышется над нашим стягом! Кричит Всеслав: – Держаться надо пока что из последних сил! – Наш князь соседей уж просил помочь всем нам, мы ждём подмоги. – Монголы пусть уносят ноги в свою родную сторону…
Олег Шухарт
На задворках души…
Очнись от векового сна,
смахни с плеч пыль небесной манны
и тягостных рекламных пауз
кромешного самообмана.
Непостижимо трезвый разум
тобой гордится – человек дождя.
Осень
На задворках души
беспросветная осень —
позабыв падежи,
я блуждаю меж сосен.
Вместе с палой листвой
в круговерти природы
не ищу путь иной —
жду у моря погоды.
Календарных листов
раздражающий хохот
заглушает стихов
лихорадочный шёпот.
Мерно падают сны
в тесный саван бумаги,
и уже не видны
образа в полумраке.
Пепел
Я – лист. Меня терзает ветер.
Но я с живым огнём в глазах,
страх позабыв, смотрю на север
и жду, когда сверкнёт гроза.
Не верю сказкам лжепророков,
поющих суете хвалу.
За смелость обречён я роком
ходить по битому стеклу.
Я – лист. Однажды стану пеплом.
Но знаю, что дождусь любви —
найду я счастье жарким летом
и скроюсь осенью вдали.
Лишь дети счастливы и верят,
что жизнь красива и добра,
а тёплый пепел – землю греет,
сверкая синью серебра.
Живой
На горизонте забрезжил рассвет,
выдавив стон из обугленных стен —
значит, живой и ещё не отпет…
Числюсь погибшим под номером семь.
Выбиты окна, и нет потолка,
небо седьмое не видно в просвет,
смыла всё за ночь седьмая вода
на киселе – напророчив семь бед.
Но в день седьмой врач, пролив семь потов,
вымостил радостью торный путь в храм,
там, где сошлось семь нелёгких дорог,
своре химер заплатив по счетам.
Над Мариуполем солнце, и свет —
солнечным зайчиком скачет вдоль стен.
Вижу его, а товарищ мой – нет…
В списке погибших он – номером семь.
Бродскому
Петропавловским шпилем царапая небо,
замирает межрёберных комнат столица.
Ей мерещится Бродский меж явью и бредом,
что на Невском искал незнакомые лица.
Он вернуться мечтал на Васильевский остров
с петроградской простуды изданьем в кармане,
с нескрываемой грустью ночных разговоров
о балтийских болотах и Питере в мае.
Звуки гласных гасил, превращая их в строки,
сбив колени о ямбы, хореи и слоги,
сдав за так дифирамбы, грехи и пороки,
стылым пеплом посыпав к забвенью дороги.
Неприметным прохожим бреду вслед за Бродским.
«Север крошит…» – твержу как молитву пред Богом.
На Сенатской реклама со слоганом броским,
и знобит от вопроса: «Откуда ты родом?».
* * *
Я вошёл в твои двери на цыпочках
и украл из альбома мечты —
те, что были на тоненьких ниточках,
как две связанных вместе судьбы.
Наши сны – фотоснимки из прошлого,
отголоски небесной любви.
Близко к сердцу мы приняли многое,
но, как прежде, где я, там и ты.
Современная проза
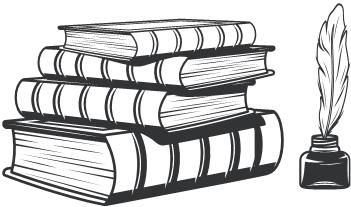
Юлия Верба
Адреналин
– Гляди: там, на склоне, пятно? На что похоже?
– Рыба!
– Ответ неправильный! Яблоко!
Пёстрая стайка подростков в джинсах и разноцветных майках галдела на веранде бара, рискованно перевешиваясь худыми туловищами через хлипкие перила. Они взмахивали руками в диковинных перстнях и ярких фенечках и показывали друг другу что-то на вершине горы.
– Груша!
– Ананас!
Николай Петрович не удержался и тоже взглянул вверх. На крутом склоне в скудной зелёной поросли темнело крупное пятно в форме зада. «Слепые они, что ли?» – удивился Николай Петрович, а ребята продолжали перебрасываться всё новыми и новыми версиями, вовсе неправдоподобными.
– Мяч!
– Лысина!
– Ж…, – неуверенно протянул ломкий баритон, и Николай Петрович обрадовался: «Наш человек!» Но одинокий голос правды тут же утонул в возмущённых криках.
– Какая тебе ж…? Звезда!
– Нет, сердце!
– Танька с Мишкой целуются!
Последнее предположение вызвало новый взрыв хохота и изменило общий ход мыслей.
– Вот такой поцелуй над бездной – и вниз!
– Витёк, а вниз-то на хрена?
– Да ты чё?! Такой адреналин!
– А если на куски? Скалы вон какие острые!
– А если нормально пройдёт, прикинь? Всю жизнь вспоминать будешь, как вниз летел. Узнаешь настоящий адреналин – чувство полёта! – Ну, круто, наверное…
– Не, я лучше как-нибудь без адреналина перетопчусь…
Николай Петрович задумался. Действительно, вроде уже и жизнь прожил, а с адреналином как-то не заладилось. Вот хотя бы здесь, за границей. Наташка с подругой щебечут: «Ах, Родос! Ой, море! Ну, отель- пятёрка!» – и всё с восклицательными знаками. А у него каждая фраза точкой, будто гвоздём, приколочена: «Родос. Море. Отель-пятёрка».
И ведь всегда так было. Никакого чувства полёта и поцелуев над бездной.
Нет, поцелуи были, конечно. Ещё когда он в нефтяном институте учился. А куда ещё поступать, если во всём городе только два нормальных вуза: универ и нефтяной? Универ – женский, нефтяной – мужской: «бабе – цветы, дитям – мороженое». Вот и пошёл в нефтяной – правильный мужской вуз. А Наташка в универе училась. Дружили, встречались, женились, сына родили. Больше тридцати лет уже вместе, в доме тепло, мирно, уютно. Не ссорились почти, не ругались.
А вот чувства полёта не было.
– И вообще, фигня это всё: адреналин, ля-ля, тополя…
– Не скажи, Вова, не скажи. Настоящий адреналин это типа наркоты. Такой кайф, что люди ради него на всё готовы.
– А чё, ещё и ненастоящий есть?
– Ненастоящий – когда куришь, пьёшь, колешься, чтоб догнаться. А кайф кончится – и ты обратно в дерьме. А настоящий – живёшь и как бы всё время летаешь. И кайф этот в себе носишь.
– А откуда кайф-то?
– От верблюда! Сказал же, в себе каждый сам находит!
– Да ну, гонишь! Чё кто находит?
– Ну, силу там, смелость, чувство полёта…
– Ага, по ходу, смело на гору попрёшь, с силой перо вставишь – и полетишь!
Николай Петрович поёрзал на скользком кожаном стуле и с удивлением понял, что ему действительно интересен этот мальчишеский спор. И в свои сорок лет, и сейчас, накануне шестидесяти, он внутренне ощущал себя даже не Николаем (тем более не Николаем Петровичем), а Коляном. Понимал, что пора взрослеть и мудреть, старался скрывать свою «вечную молодость» от окружающих. Потом смирился и перестал стесняться. Поэтому сейчас прислушивался к «пацанскому» разговору с неподдельным интересом. А Витька (похоже, неформальный лидер) важно повторял оппоненту:
– Ясен хрен, чувство полёта не у каждого. Я тут вспомнил из одной старой книжки: «Рождённый ползать летать не может». Это про таких, как ты.
«Это про таких, как я», – догадался Николай Петрович. Ни силы, ни смелости, ни чувства полёта… И в карьере невысоко взлетел, и в профессии не слишком преуспел, хотя и проработал в НИИ после вуза целых двадцать лет. Взять Котю Глембоцкого (на одном курсе учились): маленький, хлипкий, за очками не видно, зато в сорок три года уже доктором наук был, отделом заведовал. А Колян, «комсомолец, спортсмен и просто красавец», до сих пор ещё без учёной степени, старший научный сотрудник. С другой стороны, Котя сразу после вуза в аспирантуру, защитился, «Изобретателя СССР» получил, а Колян – всё больше в баскетбол да по пиву. Так что грех обижаться: кому – чё, кому – ничё, кому – хрен через плечо. Тем более что потом война началась (или, как это принято сейчас называть, «спецоперация по наведению порядка в Чеченской республике»). Как ни назови, такое было время, когда у всех жизнь пошла через это самое… через плечо.
Вся штука в том, что непонятно было: кто, с кем, куда и зачем. И от всего этого непонятного некуда было спрятаться. Всё равно достанет: не сегодня так завтра. Кого – больше, кого – меньше, кого – раньше, кого – позже.
И «таких», и «не таких»…
– Такой – не такой… А «не такой» это как? Зашибись крутой да летучий?
– В экстриме узнать можно.
– Чё?
– Ну вот в кино. Идёт экстрим: война, враги, сваливать пора, а он вдруг раз – и всех замочил! Или, прикинь, одного в плен взяли. Вроде капец! Он такой валяется: у-у… му-у… всё хреново. А другой – если «не такой»: не скулит, под автоматом лыбится, а сам планы строит, и потом ка-ак…
Да уж… Точно Витька сказал: в экстриме узнать можно.
Не улыбался Колян под автоматом. И планы не строил, как всех замочить, когда летним вечером ему в центре города мешок на голову натянули, скрутили и в машину засунули. Колян даже не понял, в чём дело. Вертелся, пытался высвободиться, но его так крепко прижали к горячему потному сиденью, что и пошевелиться было невозможно.
В незнакомом городе или селе Коляна пинками выбросили из машины, грубо протащили по ступенькам и втолкнули в какое-то здание. Когда стянули с головы мешок, он оказался лицом к лицу с темноволосым мужчиной в поношенной полевой форме. Красивое лицо мужчины портило большое багровое пятно под левым глазом, и Колян некстати вспомнил мамину поговорку: «Бог шельму метит». «Меченый» сидел на краю стола, покачивал ногой и спокойно рассматривал взъерошенного, мятого пленника. После лениво, будто нехотя, ударил Коляна по лицу и с отвращением процедил сквозь сжатые зубы:
– На ФСБ работаешь, с…?
Колян с трудом прошелестел разбитыми губами:
– Я в нефтяном институте работаю, в научно-исследовательском…
«Меченый» чему-то засмеялся и резко ударил Коляна в живот. Тут в комнату вошли ещё трое «полевиков», стали здороваться и обниматься с «меченым». Колян за это время успел продышаться, но новый удар в грудь отбросил его к стене.
Мужчины подошли поближе. Один больно схватил Коляна за подбородок. Несколько мгновений все внимательно изучали его окровавленное лицо. Потом отошли и о чём-то заговорили между собой, явно потеряв интерес к пленному. Колян почти не понимал по-чеченски, только несколько ходовых слов знал. Но тут почему-то догадался, что его просто с кем-то перепутали. Догадка радости не принесла. Ясно было: всё равно не отпустят.
Так и случилось. Коляна вытолкали во двор и прижали лицом к стене какой-то ветхой постройки. Обернувшись, он увидел направленные на него автоматные стволы. Колян где-то слышал, что в такие минуты – «на краю» – перед глазами человека проносится вся его жизнь. А сам ничего не вспоминал, будто не было никакой другой жизни, кроме этих нескольких мгновений. Только вяло удивился, что «меченый» не вышел в него стрелять: командир, наверное.
Хотел закричать, но только сипло промычал: «Эй, вы чего?» Двое «полевиков» молча посмотрели без всякого выражения и деловито щёлкнули затворами. Колян прижался к стене. Пальцы заскользили по неровной деревянной поверхности, зачем-то нащупывая мелкие щёлочки в разъехавшихся досках – как будто туда можно было спрятаться от выстрелов!
А потом оглушили автоматные очереди, которыми «полевики», как художники кистью, обводили его контур на старой деревянной стене. Тренировались. Колян осторожно пошевелил плечами и вдруг понял, что не убьют (если, конечно, рука не дрогнет). Во всяком случае, пока ещё не убьют.
И правда – не убили. Прогнали по двору, с трудом сдвинули в сторону крышку люка (канализация, что ли, удивился Колян) и сильным толчком сбросили вниз.
В узкой и глубокой яме стоял тяжёлый, смрадный запах. В углу скорчился бородатый мужик в рваной солдатской форме. Он поднял голову и что-то сказал, но слов Колян разобрать не смог, а переспрашивать не стал. Мужик назвался Федей (или Петей) из Волгограда. Или из Волгодонска. Или из Вологды. Понять было непросто, потому что мужик заикался. И зубов у него не было. Совсем.
В общем, с собеседником Коляну не повезло.
В яме было темно и сыро, а скоро стало мокро, и Колян догадался, что пошёл дождь. Неожиданно загрохотала крышка люка, и сверху спустился обрывок толстой серой верёвки. Пленники с трудом выбрались на скользкую поверхность двора. По команде «ложись» Федя-Петя плюхнулся лицом в грязь, а Колян осторожно опустился на согнутые руки и отжался. Один из конвоиров возмущённо закричал: «Ты спортсмен, да?» – и сильно пнул Коляна по рукам большим грязным сапогом. Несколько минут пленники лежали под дождём и слушали монолог одного из конвоиров, который матом предрёк печальную судьбу армии противника, обрисовал дальнейшие мрачные перспективы для Феди- Пети, а конкретно про Коляна почему-то промолчал. После этого матерщинник пинком направил Коляна обратно к яме, а молчаливый конвоир утащил Федю-Петю в глубину двора. Больше Колян его не видел.
Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации ожидать не приходилось. И валялся Колян один в яме – именно так, как сегодня Витёк говорил: «у-у… му-у… всё хреново». Долго валялся, пока обстрел не начался.
Сначала просто короткой очередью: тадах! А потом так бить стало, что даже в яме уши закладывало. Колян потряс головой, посмотрел вверх: струя чёрного едкого дыма ползла к нему через большую светлую щель между стеной и крышкой люка. Странно! Щели этой раньше не было, а теперь она постепенно расширялась, будто кто-то невидимый пытался забраться в яму со двора. Колян решительно вдохнул тяжёлый дымный букет и, скользя по неровной стене своей тюрьмы, стал потихоньку подтягиваться. Срывался вниз, снова упрямо лез. Шестнадцать раз срывался, потом перестал считать. До сих пор Колян не может понять, как ему удалось тогда выбраться наружу…
Спор в баре продолжался.
– А ты типа «не такой»?
– Да, «не такой».
– Ну да… Ты красава! Защитник-кормилец, что ли?
«Кормилец наш Коленька», – называла Коляна интеллигентная Котина бабушка, Агата Вацлавовна, когда он привозил деньги из «командировки».
Она угощала его вкусными пирогами с начинкой из бурачных листьев. А ещё – чаем из трав, выпив который, Колян всякий раз начинал неприлично зевать от сытости и покоя. Потом, едва добравшись до дома, сразу же заваливался спать.
Действительно, он тогда для многих был если не защитником, то уж точно кормильцем.
Началось это в глухую осеннюю пору, в странное предвоенное безвременье, когда непонятно было: то ли ещё мир, то ли уже война.
Зарплату платить перестали, но на работу люди всё-таки ещё наведывались. Однажды Коляна вызвал начальник Сергей Иванович по важному делу. Оказалось, нашёлся богатый заказчик, готовый заплатить большие деньги за составление некоего проекта. Такой проект их тройка (Сергей Иванович, Котя и Колян) могла подготовить быстро. Но тут было одно «но». Даже, как выяснилось, целых два «но».
Первое: деньги на проект выдавались не как трём фактическим исполнителям, а как большому творческому коллективу, который срочно требовалось создать (хотя бы на бумаге), со всеми данными и подписями участников. С этим «тройка» достойно справилась: в творческий коллектив вошли члены их семей, родственники, соседи и редкие оставшиеся в городе знакомые. Для каждого из членов разношёрстного творческого коллектива «тройка» придумала особое занятие. Например, соседка, бабушка Тася, со средним школьным образованием, в счастливом браке с зубным техником Моисеем Ароновичем не проработала ни дня, но теперь, оставшись одна, очень нуждалась в деньгах. Ничем в работе над проектом она помочь не могла, но в списке исполнителей значилась «координатором мониторинга разработки нефтяных месторождений с применением углеводородного газа под высоким давлением».
Со вторым «но» дело обстояло хуже: представлять результаты совместного творчества нужно было в другом, далёком городе. Там же следовало получать наличные деньги за работу и везти их обратно. Понятно, что ни семидесятитрёхлетний хромой Сергей Иванович, ни шестидесятикилограммовый Котя со зрением «минус шесть» на эту роль не годились. Выбор был невелик. Так Колян стал «кормильцем».
В «командировках» его отважно сопровождала Наташка, уже имевшая некоторый опыт перевозки ценных вещей. Уже целых полгода она (доцент вуза) дома шила по заданному крою шубы из меха нутрии.
Каждое готовое изделие Наташка собственноручно сдавала работодателям в грязноватом пластиковом пакете, в котором нежный мех соседствовал с вылинявшими полотенцами, свёртком с пирожками, бутылкой кефира и (высший пилотаж!) прозрачным пакетом со старыми колготками и ношеным женским бельём.
Беспроигрышный способ транспортировки ценного груза, не раз спасавший женщину от грабителей и патрульных (по сути, мало отличавшихся друг от друга), был использован в «командировках». Перед отъездом «кормильцы» надевали ветхую и непрезентабельную одежду, укладывали папки с бумагами в надорванные целлофановые пакеты с выцветшими рисунками и надписями.
На обратном пути пачки честно заработанных денег паковали в несколько слоёв целлофана, заворачивали в грубую обёрточную бумагу, местами заботливо промасленную и испачканную. Потом ценный груз размещали в освободившиеся пакеты и даже клали в открытую сетчатую авоську рядом с продуктовыми свёртками и непременной бутылкой кефира.
«Кормильцы» возвращались домой утренним поездом, и тут для них начиналось самое суровое испытание. В городе действовал комендантский час, и тревожное раннее время до шести утра пассажирам приходилось проводить в замкнутом пространстве ещё неразрушенного зала ожидания под бдительным присмотром патруля.
Патрульные с равнодушными, непроницаемыми лицами медленно перемещались по залу, заглядывали в сумки, иногда вываливали их содержимое на затоптанный пол. Внимательно изучали проездные билеты и паспорта. Некоторых пассажиров грубо обыскивали, порой били автоматными прикладами и уводили с собой в неизвестном направлении. Некоторых уводили сразу, без обыска. В это время дудаевские «гвардейцы» рьяно искали среди местных жителей потенциальных «шпионов»: несколько знакомых Коляна уже пострадали за мнимую связь с ФСБ.
Трудно сказать, по какому принципу вычислялись жертвы. Забирали интеллигентных юношей с кожаными папками, базарных торговок с пузатыми клетчатыми сумками, замызганных бомжей без всякого имущества. Разумеется, багаж «кормильцев» мог бы очень заинтересовать и порадовать стражей порядка. Но они, к счастью, почему-то подозрений не вызывали. Главное было не встретиться взглядом с патрульными, вовремя отвести глаза. Колян с Наташкой старательно «не смотрели» на патруль и, как заклинание, шёпотом повторяли: «Только не меня!» И действительно, им везло, какая-то неведомая сила (может быть, Бог) старательно оберегала их в «командировках».
Зато как приятно было потом разносить по домам и вручать (пусть и небольшие) «зарплаты», которые «тройка» честно делила со своими «сослуживцами»! В самом деле, здорово быть кормильцем…
Тем временем Витёк нехотя признался:
– Ну, насчёт защитника-кормильца я пока не очень… Но летать смогу.
– Может, и с горы вниз полетишь?
– Может, и полечу. А ты всю жизнь ползать будешь!
– Это ты щас у меня поползёшь!
Дискуссия обострилась, но в драку не перешла. Друзья растащили спорщиков в разные стороны. Те нехотя заняли места по разные концы стола, но Витька всё-таки успел ещё раз предсказать другу его печальную участь:
– Вот так всю жизнь проживёшь-проползаешь!
Ответа Николай Петрович уже не услышал: подоспел юркий чернявый официант с горячей пиццей. Ребята занялись едой и затихли. Никто не вышел из-за стола. Желающих испытать чувство полёта не находилось. Похоже, про пятно на горе забыли.
Зато Николай Петрович не забыл. Он воровато оглянулся, отставил недопитый бокал и медленно сполз с высокого барного стула. Посмотрел на часы: вроде время есть, в запасе часа полтора-два. Жена с подругой по магазинам побежали: подарки купить перед отъездом. «Так что можно», – задумчиво протянул Николай Петрович. И твёрдо повторил: «Можно!» А что именно можно – в этом он даже самому себе ещё боялся признаться. Задумал такую несусветную глупость, что и вслух произнести стыдно.
Внутренний голос укорял: «Взрослый мужик, шестьдесят скоро, а прёшься невесть куда и зачем! А на хрена?»
Чтобы заглушить нудный голос разума, Николай Петрович стал тихонько скандировать в такт шагам: «А-на, а-на, а-на хре-на?» Он резво поднимался в гору, печатая шаг, и думал, что, наверное, как-то неправильно жил. Несмело. Неярко. Без чувства полёта. Может, время такое было? Или это он бесчувственный?
Асфальт закончился. Дело пошло медленнее, Николай Петрович спотыкался на скользких неровных плитах и пытался вспомнить что-нибудь про адреналин из прошлой жизни.
Учёба и работа у Коляна никогда сильных эмоций не вызывали. Может, события какие-нибудь особенные были?
Детство. Родители купили Коляну велосипед, на зависть соседским пацанам. Ну, ездил с ветерком, друзьям покататься давал. Гимнастикой занимался, в теннис играл – как и другие. Когда выигрывал, не очень радовался. Когда проигрывал, тоже не слишком страдал… Нет, не то, не то!
Свадьба. Взволнованная румяная Наташка, немножко чужая в длинном парадном платье. Колян не задумывался, любит он её или нет. На вопрос «что такое любовь?» ответа не знал, да и стеснялся этого напыщенного «бабского» слова. Им с Наташкой всегда было хорошо вместе. Без полёта. Адреналина не было. А что было? Радость, спокойствие и какого-то глубокое родство. Как будто пришёл домой, где всё знакомое и родное. Где чисто, светло, тихо и тебя ждут.


