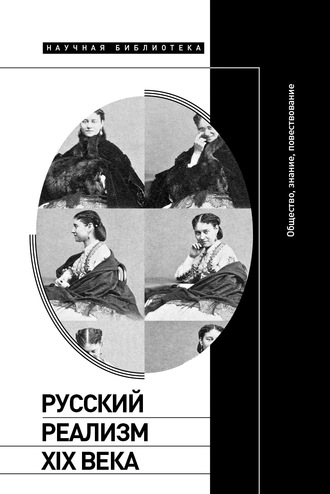
Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование
Реалистическая литература и критика берут на себя не только фиксацию внеположных им процессов, но и теоретическое и проективное осмысление эволюционирующего общественно-экономического уклада и соответствующих ему модусов субъектности и личного поведения. В книге Гуидо Карпи «Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы» (2012) классическое марксистское представление «об исторической реальности как о единственном объекте искусства» сочетается с констатацией нелинейности и противоречивости исторической действительности. «Художник не „воспроизводит“ и не „отражает“ историческую действительность (она динамична, противоречива и не поддается „воспроизведению“), но отбирает определенные ее явления и тенденции, чтобы переорганизовать их во вторичную структуру»[70]. Сложный инструментарий такого отбора, превращающего экономические факты в дискурсивно-эстетические, подробнее прослежен в монографии Джиллиан Портер «Экономика чувств: Русская литература в эпоху царствования Николая I» («Economies of Feeling: Russian Literature under Nicholas I», 2017). В сочинениях николаевской эпохи – от Пушкина и Гоголя до раннего Достоевского – Портер прослеживает связь денежных отношений с различными аффективными модусами и социальными ролями: так, афера Чичикова и рассказ о ней связаны с поэтикой гостеприимства, а в «Двойнике» Достоевского нетвердый денежный курс соотносится с неустойчивостью модерного языка и субъектности, взывающей к эстетике фантастического. Экономическая деятельность требует специфических типов субъектности; в их числе, как показывает Портер, важнейшее место занимают честолюбец и скупец.
Очерченные подходы и вопросы переплетаются в нескольких работах настоящего сборника. В статье К. Ключкина эстетические понятия о реализме в критике 1840–1870‐х годов рассматриваются как элемент коммерческой прессы и стоящих за ней закономерностей капиталистической экономики. Соотнесение коммерческой экономики, общественного уклада и художественной формы развивается и в статьях, посвященных экономическим отношениям у Достоевского. К. Осповат рассматривает изображение нищеты в «Бедных людях» в связи с экономическим пониманием симпатии, восходящим к социологической доктрине Адама Смита и связанным с сентиментальной поэтикой. Констатируя переплетение различных художественных стилей в «Неточке Незвановой», Белла Григорян находит в этом неоконченном романе анализ культурного производства и потребления «среднего круга», а также модель нового социального субъекта, обретающего себя в медиальном пространстве коммерческой прессы. В обеих этих работах судьбы героев вписаны в экономическую топографию Петербурга, складывающуюся в столкновении богатства и бедности. Вадим Шнейдер связывает повествовательное устройство «Идиота» со сломом экономических формаций и соответствующих им культурных типов: на смену старому купечеству «скупцов» приходят новые капиталисты, чьи деловые обороты оказываются неподвластны романному повествованию. Наконец, Джиллиан Портер продолжает исследование экономической и повествовательной семантики кредитных билетов у Достоевского – на этот раз в «Братьях Карамазовых» – и видит в ней ключ к внутренней форме его последнего романа.
Реализм и научная эпистемология XIX века
Хорошо известно, что реализм выстраивал собственный метод и подопытную реальность, опираясь на представления социальных, физических, математических, психологических, физиологических и биологических наук 1830–1870‐х годов[71]. Сами участники литературной жизни прекрасно это осознавали, а наиболее проницательные из них пытались концептуализировать. Так, Э. М. де Вогюэ в предисловии к быстро прославившейся книге «Русский роман» (1886), как будто предвосхищая построения Бруно Латура, проводил впечатляющую по тем временам тройную параллель между открытием микробов усилиями Пастера, работой современного психолога и писателя:
Гуманитарные науки подчиняются импульсу, заданному науками естественными. История внимает показаниям народов, оттеснив на второй план единственных свидетелей, которых выслушивала прежде: королей, министров, военачальников ‹…› Для освещения хода событий она [история] более не довольствуется несколькими главными фигурами; дух целых рас, тайные страсти и терзания, вереницы мелких фактов – вот материал, с помощью которого она воссоздает прошлое. Тем же занят и психолог, изучающий тайны души; человеческая личность представляется ему производным длинной череды наслоившихся одно на другое ощущений и действий, чутким, переменчивым инструментом, находящимся под постоянным влиянием окружающей среды. ‹…› Литература, эта исповедь общества, не могла оставаться чуждой этим всеобщим переменам; сначала инстинктивно, потом осознанно она стала приводить свои методы и идеалы в соответствие с новыми веяниями[72].
Психологический анализ мельчайших движений души у Толстого и Достоевского тем самым оказывается смежен и, отчасти, генетически связан со становлением новой научной картины мира. Только в XX веке стало ясно, что это движение и влияние было далеко не односторонним. Работы Дж. Бир[73] и Дж. Ливайна 1980‐х годов о научном языке и воображении Дарвина показали, что научная мысль середины XIX века полагалась на повествовательные структуры и метафорический аппарат для доказательства выдвигаемых гипотез. Иным способом, не прибегая к сюжетному повествованию и емким метафорам, объяснить и обосновать ту или иную теорию оказывалось невозможно: в распоряжении ученых еще не было совокупности геологических, археологических, лингвистических и прочих фактов, накопленных исследователями лишь к началу XX века, когда подтвердились многие прежние теории. Писатели, в свою очередь, получали в распоряжение новые представления о невидимых глазу связях между объектами реальности, причинах эволюции человеческого рода или законах психики, которые навсегда изменили способы повествования, усложнив и обогатив репрезентацию отношений между индивидами, мотивировки повествовательных событий, варианты сочетания сюжетных линий и т. д.
В такой же перспективе современная наука рассматривает и, например, панъевропейский натурализм 1870–1890‐х годов, который не просто возвел биологический детерминизм и теорию наследственности в ранг новой религии, но и разработал базовый сюжет о дегенерации рода, ставший едва ли не ключевым моментом в теориях вырождения у многих врачей, социологов и психиатров-неврологов конца XIX столетия[74]. Иными словами, научная и художественная сферы в эпоху реализма середины XIX века не столько соседствуют, сколько образуют общую «фигурацию», в рамках которой научные представления обретают литературную форму и становятся повествовательными конструкциями. Начиная с середины 1980‐х и особенно в 1990‐е годы вышло множество работ о том, какими именно повествовательными и сюжетными средствами писатели середины XIX века воплощали вдохновлявшие или раздражавшие их представления, восходившие к Конту, Фогту, Дарвину, Спенсеру, Вундту, Льюису, Лобачевскому и др.
Из большого массива подобных работ выделяются книги Дж. Ливайна, много сделавшего для развития этого направления в изучении прозы XIX века, в первую очередь англоязычной. Двигаясь вслед за Бир, Ливайн пришел к еще более неожиданным выводам о неявных влияниях научных теорий на романную форму у Остин, Диккенса, Троллопа и др. Оказалось, что, безотносительно знакомства писательницы с сочинениями Дарвина или других эволюционистов, она могла совпасть с ними в приверженности к двум наиболее популярным в британской геологии и биологии того времени теориям – униформизму или градуализму[75] – в силу включенности в общую дискурсивную культурную среду. Как показывает Ливайн, характерная для Викторианской эпохи «интеллектуальная конвергенция» геологического, биологического, политического и литературного градуализма образовывала фундамент художественного реализма той эпохи и определяла развитие сюжета и взаимодействие между социальными группами в романном социальном воображаемом[76]. В этом смысле реализм больше, чем какой-либо из предшествующих «больших стилей», обращался к естественным наукам в поисках наиболее адекватного способа воссоздания реальности[77].
В последнее десятилетие наметился еще один неожиданный ракурс в изучении эпистемологии реализма, в первую очередь викторианского. Как показал Николас Деймс, доминировавшая в Великобритании середины XIX века (в работах Дж. Г. Льюиса, Энэаса Далласа, Александра Бэна и др.) физиологическая психология выработала собственную физиологическую теорию психологического «я» (self), отдающую приоритет неосознанным и непроизвольным телесным импульсам (‘non-conscious’), но не подсознанию, каким мы его знаем после работ Фрейда. Деймс утверждает, что «тон и длина викторианских повествований многим обязаны этому новому эпистемологическому разделению между всезнающим нарратором и персонажами, постоянно – и вероятно даже онтологически – не осознающими оснований мотивов своих поступков. Несобственно-прямая речь, которая была в ходу уже у Дж. Остин, процветала у таких авторов, как Флобер и Джойс, и стала поэтому краеугольным камнем теории романа, в викторианской прозе оказывается далеко не таким распространенным приемом»[78].
Иными словами, перед исследователями реализма открывается не только зона нарративов, но и особый полуакадемический, полунаучный, полукритический дискурс второй половины XIX века, особая «физиологическая теория романа», которая задавала общественные модусы восприятия и порождения романов. (Естественно, встает вопрос, могла ли существовать подобная «теория» и практика в России конца XIX – начала XX века, когда экспериментальная психология появилась на сцене и стремительно институционализировалась[79].)
Первые значительные работы о русском реализме и естественных науках в очерченном методологическом русле появились в немецкой русистике в 1990–2000‐е годы. Первоначально они сосредоточивались в основном на медицинских представлениях, хотя привлекали к рассмотрению и более широкий материал психологии, физиологии, философии и естествознания XIX века. Так, например, Сабина Мертен в книге «Возникновение реализма из поэтики медицины: русская литература 1840–1860‐х гг.»[80] исследует под таким углом зрения тексты Достоевского, Гончарова, Герцена и Чернышевского, а подготовленный немецкими славистами из Университета Констанца сборник статей «Русская литература и медицина» (М.: Новое издательство, 2006) задает еще более широкие рамки – от литературы эпохи Просвещения до современности.
В американской славистике это исследовательское направление представлено монографией Валерии Соболь – очерком культурной истории знаменитой «любовной горячки», считавшейся в науке опасной и смертельной болезнью и потому обладавшей огромным сюжетным потенциалом[81]. В книге показано, как медицинская трактовка этой болезни определяет сюжеты канонических русских текстов от Карамзина до Льва Толстого. В нашем сборнике В. Соболь рассматривает смежный сюжет о возникновении из духа романтизма новой, физиологической теории любви в научном и художественном мышлении 1860–1870‐х годов, демонстрируя тем самым «конвергенцию между литературными и научными моделями». К теории рефлексов Сеченова – едва ли не ключевой русской научной модели 1860‐х годов – обращается в своей статье и Алексей Вдовин. Он показывает, как Достоевский в «Записках из подполья» полемизирует с идеологией Сеченова, одновременно усваивая из его трактата технику дискретного описания последовательных фаз психического возбуждения и торможения. В результате рождается фирменный, уже гораздо более позитивистский, психологизм автора «Преступления и наказания», упрочивший его роль в экспансии «реализма в высшем смысле».
Статья Мелиссы Фрейзер, открывающая раздел о связи реализма и науки, предлагает глобальный сравнительный взгляд на различные изводы науки в середине XIX века. В качестве русских аналогов антипозитивистской научности Дж. Г. Льюиса, разрабатывавшего неевклидову геометрию, Фрейзер рассматривает Достоевского и Толстого. Они не только живо интересовались высшей математикой, заставляли героев и повествователей обсуждать ее и прибегать к ее ресурсам (интегралы в «Войне и мире»), но и, в пику оголтелым материалистам и монистам, оспаривали художественными средствами главенство данной нам в ощущениях объективной реальности. Симптоматично, что статья оканчивается ссылкой на исследование Б. Латура «Надежда Пандоры», постулирующее необходимость радикального пересмотра сформированной в том числе и реализмом XIX века научной картины мира; это в очередной раз свидетельствует о концептуальном потенциале реконструкции научно-идеологического ландшафта той эпохи.
Мимесис и саморефлексия в русском реализме
В книге Эриха Ауэрбаха «Мимесис», которая, несмотря на ее почтенный возраст, по-прежнему остается одной из главных точек отсчета для теории мимесиса, русскому реализму отводится особое место. Рассуждая о способах создания миметической иллюзии в литературном тексте, Ауэрбах говорит о русском изводе реализма, в первую очередь, с точки зрения его влияния «на развитие в европейской литературе способности видеть и изображать действительность»[82]. Главное, что, по мнению ученого, отличает русский реализм от западноевропейского, – это «динамизм» и «глубина чувств», характерные «для текстов раннего „христианского реализма“», а также «непосредственность выражения», в котором «смешение реализма и трагического восприятия жизни достигло своего совершенства»[83]. «Могучие волны» русского реализма разгоняют, как пишет Ауэрбах, во-первых, интерес русских писателей к личности вне сословной принадлежности (Ауэрбах связывает это с неразвитостью капиталистической экономики в России в период формирования реализма), во-вторых, «единый характер населения и форм жизни на всем пространстве этой большой страны» (провинциальная Россия за пределами Москвы и Санкт-Петербурга изображается как единое пространство), и в-третьих – бурная реакция на события мировой и, в частности, европейской культуры, которые «всей тяжестью обрушивались на русское общество»[84].
Язык Ауэрбаха, в целом склонного к гиперболе и в других главах, на страницах, посвященных русскому реализму, полон таких эпитетов, как «могучий», «мощный», «глубокий», – призванных, по-видимому, передать эмоциональное воздействие, которое тексты русского реализма оказывали на европейского читателя. Русский реализм, по Ауэрбаху, оказывается как бы заточен в рамках европейской культуры: значимость русского реализма определяется уровнем его влияния на европейскую литературу, однако его особые свойства, усиливающие это влияние, возникают как реакция русской культуры на «европейские, а особенно немецкие и французские духовные и жизненные явления, проникавшие в русскую жизнь»[85]. Такое специфическое прочтение русского реализма объясняется общим контекстом работы Ауэрбаха, как историческим, так и научным[86], и мало сообщает собственно о природе текстов, которые оказались в центре его внимания. Тем не менее замечания Ауэрбаха надолго обозначили общий вектор подходов к российским текстам второй половины девятнадцатого века в европейском и англо-американском сравнительном литературоведении[87].
Внимание к социальным принципам общности и отрицание сословного деления российского общества, а также утверждения о превосходстве текстов Толстого и Достоевского над романами их современников-европейцев позволили с относительной легкостью «конвертировать» подход Ауэрбаха для применения в советском литературоведении. Предисловие к изданию русского перевода «Мимесиса» 1976 года было написано Г. М. Фридлендером, реабилитировавшим труд зарубежного ученого. Сразу же указав на нетипичность его подхода среди теоретиков «буржуазной филологической науки XX в.» и на задокументированное сочувствие Ауэрбаха идеям К. Маркса, Фридлендер подчеркнул и антифашистский пафос исследования, написанного в 1940‐е годы в Стамбуле[88]. Фридлендер (в целом, как свидетельствует его «Поэтика русского реализма», он считал методы Ауэрбаха применимыми в советском литературоведении) ритуально видит слабое звено теоретических построений Ауэрбаха в отсутствии внимания к «классовой борьбе» и «внеисторичности». Однако он также отмечает, что автор «Мимесиса» идеализирует эстетику христианского искусства, и указывает на «традиционный для буржуазной науки „евроцентризм“», из‐за которого литературы Востока практически не учитываются в теоретических построениях Ауэрбаха.
Эта небольшая заметка Фридлендера наглядно демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются современные исследования русского реализма, вдохновившие, в частности, составителей этого сборника. С одной стороны, очевидно, что упреки в недооценке роли классовой борьбы – навязчивое клише советских рецензий на зарубежные работы. С другой стороны, универсализация христианской эстетики и евроцентризм – это характерные черты гуманитарной мысли XX века, преодоление (или хотя бы, на начальном этапе, выявление) которых является одним из главных методологических принципов современной гуманитарной науки. Из-за идеологического багажа понятия «реализм» в советской науке соблазн, как говорит немецкая пословица, выплеснуть ребенка вместе с купальной водой часто оказывается слишком велик – и целый пласт методологических подходов, скомпрометированных историей их употребления, оказывается исключенным из научной практики.
Очевидно, что любой исследователь ограничен в своей работе горизонтами собственных компетенций (например, Ауэрбах объясняет краткость своих замечаний о русском реализме незнанием русского языка) и набором собственных идеологических лояльностей, личных и профессиональных. Именно поэтому междисциплинарный и транснациональный фокус статей, представленных в сборнике в целом и в частности в разделе, посвященном мимесису, мета- и интертекстуальности, кажется нам особенно важным. (Тем более что лучшие из классических русскоязычных работ о реализме и мимесисе как способе отражения действительности в литературе также балансировали на грани нескольких методологических подходов: истории литературы, культуры и языка у М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана, философии, лингвистики и психологии в работах Л. Я. Гинзбург и т. п.)
Установка на междисциплинарность позволяет авторам обращаться к наработкам современной философии, историографии, теории коммуникации и археологии медиа, истории материальной культуры в поисках новых решений для старых литературоведческих проблем. К числу таких подходов, новаторских, с одной стороны, и укорененных в смежной природе разных отраслей гуманитарного знания – с другой, принадлежит и характерный для последних десятилетий научный интерес к углубленному изучению точек соприкосновения между реализмом и современной теорией мимесиса как процесса отражения реальности в искусстве в целом.
Как пишет американский теоретик мимесиса Мэтью Потольски, «реализм продолжает оставаться главным способом интерпретации мимесиса в современной культуре»[89]. Такая релевантность реализма для понимания взаимодействия искусства с материальным миром важна в контексте исследований не только мировой литературы в целом, но и русской литературы XIX века частности. Первый же пример описания процесса мимесиса в литературе классического периода, который приводит Потольски (состязание двух художников, описанное в «Естественной истории» Плиния Старшего, 77 г. н. э.), обозначает исходную задачу мимесиса как уничтожение границ между искусством и реальностью: состязание выигрывает тот художник, чья картина оказывается наиболее правдоподобной. Эта античная дискуссия вызывает в памяти такие, на первый взгляд, далекие феномены, как знаменитый рассказ Э. А. По «Овальный портрет» (1842) (в котором жена художника и одновременно его модель умирает от истощения ровно в тот момент, когда ее изображение на холсте мужа достигает полного сходства и даже превосходит его совершенством) и постулаты магистерской диссертации Чернышевского (1855) и трактата П. Ж. Прудона «Искусство, его основания и общественное назначение» (1865). Эти ключевые для российской и французской полемики о природе литературного реализма тексты определили как вектор журнальных дебатов середины XIX века о принципах реалистического искусства (к которым апеллируют сразу несколько статей сборника, в первую очередь статья К. Ключкина), так и – часто от противного – природу более поздних текстов русского реализма, таких как романы Тургенева, Толстого и Достоевского.
Главное, о чем напоминает современная теория мимесиса, – это то, что степень реалистичности текста считывается в первую очередь читателем, иногда вне зависимости от авторской установки на правдоподобие. Такая система взаимоотношений, ключевая для функционирования мимесиса в целом, особенно актуальна в контексте современной переоценки списка канонических текстов русского реализма с точки зрения их соответствия «фантомной» литературной традиции. Как взаимное напряжение между намерением и восприятием, интенцией и рецепцией, эта характеристика мимесиса освещается в теоретических работах и Романа Якобсона, и Раймонда Уильямса. Базовые категории и определения мимесиса, предложенные в работах Платона (мимесис как точное воспроизведение материальной действительности, или теория отражения) и Аристотеля (мимесис как верное действительности структурирование сюжета по принципам вероятности и необходимости, или теория правдоподобия), переосмысленные c точки зрения транснационального подхода (например, подчеркивающего ограниченность функционирования этих понятий вне западной культуры), остаются важными инструментами и для анализа текстов русского реализма.
Еще один ключевой элемент античной дискуссии о мимесисе, который важен и сегодня, – это эмоциональная реакция (страх, нервозность, психологический дискомфорт), вызываемая пониманием того факта, что чрезвычайно удачный мимесис повторяет реальность настолько хорошо, что имитацию невозможно отличить от исходного объекта. Очевидно, что в эпоху появления нейросетей, создающих копии текстов, фото- и видеоизображений, не отличимые от первоисточника, такая эмоциональная реакция на реализм как апогей «правдоподобия» кажется вполне понятной. Потольски и другие теоретики мимесиса уделяют большое внимание негативному восприятию реализма современниками во второй половине XIX века по всей Европе. Викторианский антиреализм эстетических манифестов Оскара Уайльда, противопоставлявшего эстетику красоты натуралистичным описаниям реализма, и французский извод той же критики (замечания Бодлера об ограниченности фотографии как способа отражения действительности[90], первые манифесты декадентов), а также их русские аналоги (статьи Н. Минского и Д. С. Мережковского) – богатый материал для сопоставлений с подобными практиками на российском материале. Так, важные связи между мыслями Белинского о новом искусстве фотографии и понятием «реалистичного» у передвижников устанавливает в книге о «реализмах» Молли Брансон[91].
Использование теории мимесиса и сравнительного подхода уместно и в исследованиях дидактического модуса, гораздо более влиятельного в русском реализме, как показывает Сара Рут Лоренц, чем в его европейских изводах. В исследовании «Визионерский мимесис: имитация и трансформация в немецком просвещении и русском реализме» (2012)[92] Лоренц рассматривает российскую литературную критику 1860‐х годов в контексте немецкой философии идеализма. Лоренц описывает парадокс русской «реальной» критики, отвечая на вопрос: как, с философской точки зрения, критики-реалисты разрешали логическое противоречие между требованиями к искусству верно отражать действительность и при этом менять ее в лучшую сторону? Инструментарий современной теории мимесиса позволяет, таким образом, рассматривать метаэлементы в поэтике литературных текстов 1860‐х годов как попытку осмыслить в пространстве литературного текста эту противоречивую установку.
Еще одно исследование, чрезвычайно плодотворно работающее с современной теорией мимесиса на российском материале, – работы Хлое Китцингер, в которых рассматриваются системы персонажей в романах Толстого и Достоевского как инструмент создания миметической иллюзии[93]. Китцингер описывает авторские отступления в «Войне и мире» как размышления о типе литературного мимесиса, идентичного созданию правдоподобных персонажей, используя новые подходы к теории литературных типов (сформулированные, например, в книге Джона Фроу «Характер и личность», 2014)[94]. Китцингер подчеркивает связь между местом, которое Ауэрбах определил русскому роману в истории мимесиса (тексты «трагического» реализма[95], обращающиеся к эстетике раннего христианства), функционированием системы персонажей в романах Толстого и Достоевского, а также проблемами этики романной формы[96].
Исследование Михаила Ямпольского «Ткач и визионер»[97], посвященное проблемам репрезентации в мировом искусстве в целом, также обращается к российскому материалу в разделах о романтизме и реализме. Ямпольский описывает эволюцию способов репрезентации реальности в текстах Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского[98] и др. и удачно вписывает теоретические выкладки российских писателей в мировую историю мимесиса как литературной практики. Теория мимесиса становится для исследователя неким общим знаменателем, к которому сводятся разные, но часто ключевые для реалистических текстов нарративные приемы: экфрасис, невербальная коммуникация (жесты), кенозис и др.
В недавней книге Ф. Джеймисона «Антиномии реализма» проблема миметического отображения реальности рассматривается в связи с «аффективным поворотом» в гуманитарных науках последних двадцати лет[99]. Джеймисон видит в реализме не просто правдоподобное изображение человеческой психики, но репрезентацию телесных и душевных аффектов. Разработанная взамен устаревшей классификации эмоций, поэтика аффекта потребовала новой темпоральности, наиболее подходящей формой для которой оказался роман. В первой главе автор настаивает, что жанр новеллы в силу сосредоточенности на рассказывании истории героя (telling) ни исторически, ни структурно не был приспособлен для рассказа о мельчайших душевных и телесных движениях героев. Ключевой оппозицией для Джеймисона выступает не recit vs. roman, не telling vs. showing, но судьба (destiny) vs. вечное настоящее (eternal present), в рамках которой и разворачивается репрезентация «волн телесных ощущений», требующих особой темпоральности. Исторически тексты реализма возникают из напряжения между двумя этими полюсами. Для авторов 1830–1840‐х годов новой задачей было уловить аффекты, не поддававшиеся языку эмоций – уже хорошо разработанному, но еще не обладавшему необходимыми категориями для дискурсивного обозначения того, что Спиноза именовал аффектом (страстью).
Джеймисон приводит эффектный пример – пассаж из «Отца Горио», где Бальзак удручен бедностью языка, не имеющего средств для передачи мельчайших состояний и запахов. К сожалению, Джеймисон не вдается в историю осмысления аффектов, хотя это позволило бы соотнести литературную репрезентацию с историей физиологии и научной теории аффекта, разработанной в 1880‐е годы независимо друг от друга Карлом Ланге и Уильямом Джеймсом. Согласно Джеймисону, аффект в романе семантически и формально соотнесен с эффектами и идеями протяженности, интенсивности, сингулярности, «хроматизма тела». Такой ракурс позволяет Джеймисону включить в поле реализма и Бальзака, и, вопреки Лукачу, Золя (а расширительно – и «экзистенциальный роман» XX века), а также нетривиально (и местами рискованно) говорить о музыкальной технике Вагнера и живописи импрессионистов как об аффективных, а значит – реалистических по своей природе.
Особо стоит упомянуть предложенную Джеймисоном интерпретацию аффективных состояний в прозе Толстого. Цель Джеймисона – расслоить личность и сознание у Толстого. Его моралистическая система, являясь по сути идеологией, определяет и способ репрезентации («морализирующая система психологического»). Пристально читая эпизод приезда князя Андрея в австрийскую ставку, когда его настигает осознание неадекватности понятия «счастье», Джеймисон показывает, что едва ли не основной прием Толстого – деперсонализация и тирания точки зрения. По мнению исследователя, мы можем прочитывать знаменитые моменты интроспекции и озарения героев Толстого как аффекты, обладающие процессуальностью и интенсивностью переживания. Более того, описание внутренней жизни персонажей, в чье сознание допускает нас повествователь, сходно и заключается в репрезентации сменяемости аффектов, регулирующей сюжетное движение в романах Толстого. Утверждая, что персонажи у Толстого не органичны, но мозаичны, Джеймисон лишний раз, не ссылаясь на предшественников, подтверждает старое мнение о том, что традиционных цельных и последовательных в своих поступках характеров у Толстого не существует, их природа иная.
Внимание к парадоксу мимесиса – неизбежному искажению изначальной действительности в процессе ее изображения – органично приводит к рассмотрению моментов рефлексии этого процесса, интегрированного в сами литературные тексты. Саморефлексия – термин, устоявшийся в англоязычной и других зарубежных традициях (нем. Selbstreflexion, итал. riflessione, фр. autoréflexion и пр.). С середины 1990‐х годов он постоянно используется и в российском литературоведении, однако его приложение к текстам русского реализма остается весьма ограниченным. Одна из причин этого – исторически сложившееся в русской науке использование разных терминов для определения одних и тех же приемов повествования в литературах XX и XIX века. За методологией, необходимой для выявления и описания процесса нарративной саморефлексии в тексте, стоит теория метапрозы, которая была осмыслена российским литературоведением и зарубежным литературоведением, работающим с русскоязычными текстами, только в 1990‐е годы. До 1990‐х комплекс нарративных техник подобного рода обсуждался по-русски либо в рамках исследований «игровой поэтики» и роли автора в тексте, либо в структуралистских терминах вторичного моделирования реальности Ю. М. Лотмана и Д. М. Сегала[100]. Такая дисперсность терминологии теории метапрозы в русском языке, органичность ее использования для анализа модернистских и постмодернистских текстов, наряду с характерным для классической теории метапрозы пониманием мимесиса и саморефлексии как взаимоисключающих повествовательных техник[101], фактически препятствовали широкому обращению к исследованиям метаэлементов в прозе русского реализма. Интересный пример терминологического «трансфера», в котором понятие «саморефлексия» с присущим ему комплексом научных коннотаций при переводе подменяется более привычным термином, отсылающим, однако, к принципиально иному методологическому аппарату – перевод на русский замечания У. М. Тодда в описании истории литературы XIX века о «самосознании» в русском романе[102] как «постоянном присутствии автора» в тексте[103]. В общем верный перевод тем не менее вписывает выводы Тодда в качественно другие теоретические рамки.


