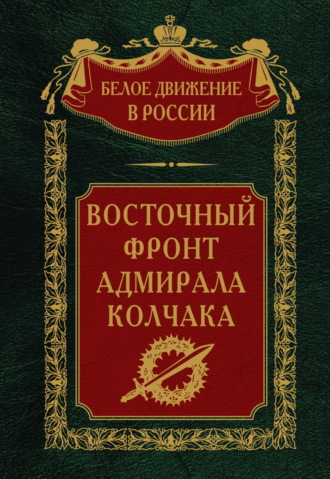
Восточный фронт адмирала Колчака
Скоро начались бои и на всем фронте армии; красные предупредили нас и перешли в наступление (14–15 октября). Дня три бои велись с переменным успехом, но затем мы начали отступать то здесь, то там. Еще через два-три дня ясно обозначилось, что армия начала общий отход.
На нашем участке было тоже несколько напряженных боевых дней. Наше растянутое положение не выдерживало давления красных, и мы принуждены были уступать понемногу наши опорные пункты на Тоболе. Местные условия здесь были благоприятны для обороняющегося, но пассивной обороной удержать участок было нельзя; для активной же мы были слишком слабы и растянуты. Во время этих боев я воочию убедился, как слабы наши части в обороне даже выгодных пунктов; противник еще далеко, и, чуть наметился какой-либо обход, начинается нервничанье, а затем и отход. Требовались громадные усилия командного состава, чтобы удерживать людей от преждевременных отходов (вне сферы досягаемости ружейного огня) и для организации противодействия обходам. Это не всегда удавалось. При обороне совершенно зря выпускалось большое количество патронов, никакой дисциплины огня, никакой выдержки, никакого сознания силы оружия в своих руках. А эти же люди при наступлении бежали вперед безостановочно под таким же огнем противника.
В день перехода красных в наступление на реке Тоболе, еще до полного рассвета, в тумане слышу отчаянную пулеметную стрельбу впереди; кажется, что совсем близко, а на самом деле до 16-го полка не ближе 4 верст. Едем на выстрелы. Оказывается, что 16-й полк уже бросил деревню в долине Тобола и перешел на берег долины. Вся долина как на ладони, немного мешает видеть туман. Пулеметы стучат вовсю. По ком огонь? – Вон там по кустам двигаются красные! Внимательно смотрим – не ближе 2 верст какое-то слабое движение. С трудом останавливаем огонь и заставляем выдерживать. Получаем донесения со своего участка (около 15 верст) – началось наступление красных. Слышим артиллерийский огонь.
Там, где во главе частей хорошие командиры, дело идет сносно; где слабые, совсем слабо. Обстановка меняется каждый час, части действуют на широком фронте, все зависит от умения командиров частей. Сколько горьких курьезов, в особенности когда мы оставили берег и стали отходить по лесистой местности.
Первые дни мы отходили медленно – верст по 6–8 в день; дальше начались отходы на большие расстояния. Кажется, уже во время этих боев из случайной какой-то телеграммы мы узнали, что армия, состоящая из нескольких групп, почему-то переменила название на «Московскую группу армий»43 и генерал Сахаров стал подписываться «Комгруппарм Московской». Было и смешно и грустно. Неужели успех, вылившийся в медленное продвижение армии на Тобол, успех, купленный очень дорогой ценой, так вскружил голову на верхах? Командующего армией, командующих группами Верховный Правитель наградил Георгием 3-й степени. А за две недели остановки на Тоболе мы не получили ничего для восстановления сил, для продолжения наступления и ожидали жестоких последствий. Неужели не было видно, что обстановка напоминала положение весной этого же года западнее Уфы, что от успеха до полного провала дела один шаг. Разница была в том, что весной был успех действительно большим и что при неудаче могла быть надежда на переэкзаменовку, а теперь неудача вела к катастрофе для всего движения. Помню отлично, что эти горькие чувства переживались не одним мной, о том же говорил назначенный командующим Уфимской группой генерал Бангерский, сменивший ушедшего из армии из-за несогласий с Сахаровым генерала Войцеховского; говорил умерший в Чите командир Оренбургской казачьей бригады полковник Овчинников и др.
Командуя дивизией, да еще в такое критическое время, естественно, живешь ее обстановкой, обстановкой ближайших соседей. То, что творится кругом в широком масштабе, доносится изредка, обо многом узнаешь после. Нам трудно было представлять обстановку в целом. Во время движения к Тоболу мы слышали об упорных боях на левом фланге армии, о движении в тыл красным Сибирской казачьей группы, о прибытии отряда карпато-руссов и о неудаче с ним. Мы слышали об успехах ижевцев, волжан, о ряде выдающихся подвигов целых частей. И если во время движения вперед мы радостно прислушивались ко всему этому, забывая свои тревоги, и иногда (не всегда) начинали верить в перелом на фронте, то, когда начался общий отход, поняли, что дело обстоит не так благополучно.
До громких ли названий, наград, когда на фронте оставались все те же волжане, уфимцы, камцы, оренбуржцы, ижевцы, уральцы, потерявшие многих из своих соратников, а главное, терявшие веру в пополнения, поддержку, подкрепления, начинавшие остро ненавидеть тыл и видеть в нем сосредоточение всего скверного, всего зла? Надо еще прибавить, что вопрос о наградах вообще в армии понимался неодинаково. Многие были вообще против наград в Гражданскую войну, особенно таким орденом, как Святого Георгия Победоносца.
Дивизия отходила севернее железной дороги – к реке Ишиму. Получили сведения, что по пути пополнимся, во всяком случае не далее реки Ишима. Наши пополнения, полученные в своем районе, конечно, отстали, чтобы остаться в своих домах, а затем попасть в Красную армию. При отходе два-три критических случая, когда в штабе армии считали дивизию отрезанною и окруженною. Случаи происходили потому, что мы старались добросовестно выполнять дневные задания штаба группы, а соседи часто подводили – отходили больше чем следует. Выбирались благополучно, и только на реке Ишиме несколько пострадал Михайловский полк.
Сначала мы отходили, переходя к обороне некоторых пунктов, а потом, когда получили сведения о посылке пополнений, оставили на фронте завесу из оренбургских казаков и отошли сразу – оторвались, чтобы спокойнее влить пополнения. Действительно, близ Ишима получили до 60 человек унтер-офицеров из Петропавловской школы и около 600 человек солдат из кадровых бригад. Люди хорошо одеты, но не для холода, который уже давал себя чувствовать. Выглядят хорошо; поставили в строй – наши солдаты радостно их приветствовали. Большею частью Кокчетавского уезда, не высказывают определенных симпатий. Увы, это было уже бесполезное пополнение; может быть, люди и стали бы драться с большевиками, попади они к нам на Тоболе, в хорошие осенние дни. А здесь, на Ишиме, они попали, во-первых, в отступательное движение, во-вторых, в начавшиеся морозы и принуждены были иногда зябнуть без теплой одежды. Они скоро растаяли, отставая от частей и даже переходя группами к красным. По ним наши старые стрелки поняли, что ожидать от Сибири больше нечего, что мы одни.
Встретили мы на реке Ишиме и инженерную команду для руководства возведением укреплений. Кто-то еще думал, что постройкой укреплений на берегу небольшой, уже замерзающей реки можно помочь делу. Мы предложили прежде всего построить нам землянки для полевых караулов, так как все населенные пункты были на западном берегу Ишима, а высидеть на берегу без теплых помещений охранению было невозможно. У нас не было теплой одежды даже для постовых.
Не успели устроиться на реке Ишиме, как 31 октября узнали о том, что красные заняли Петропавловск. Пришлось высылать конницу, чтобы обезопасить себя с юга, так как иначе мы могли быть отброшены на север. Потянулись дни ежедневных отходов вдоль железной дороги к Омску. Красные после успехов в Петропавловске начали нажимать все энергичнее и энергичнее, особенно когда выпал снег, подмерзла почва и можно было двигаться даже без дорог.
От Петропавловска до Омска 15–20 переходов; надо было ожидать, что через две недели мы будем под Омском. По опыту знаем, что, раз начался отход, не могут помочь приказы: «прочно занять и упорно оборонять», «задерживать во что бы то ни стало» и т. д. Решишь воспользоваться благоприятными местными условиями и дать отпор следующим по пятам красным, смотришь – сам попадаешь в «приятную» историю, из которой с трудом выкручиваешься, так как оказываешься в одиночестве. На пути к Омску у нас было не менее трех таких историй. И все потому, что соседи – с одной стороны сибирские казаки, а с другой – части Волжской группы – осаживали на чересчур большие расстояния.
В одном месте задерживаем красных, оставляем на месте боя арьергард, а остальное отводим подальше, чтобы приготовиться к обороне завтра; связываемся с соседями – они на месте. Через несколько часов к нам приезжает соседний штаб дивизии и подтверждает, что расположение их частей обеспечивает нас: сговариваемся на утро. Через час наша разведка доносит, что колонна красных подходит к деревне с той стороны, где расположены были наши соседи. Еле-еле успеваем предупредить свои части, оставленные далеко впереди, чтобы вывести их без потерь. Оказывается, что соседи свернулись без приказания начальника дивизии, как только тот выехал к нам.
В другом месте, в районе большой казачьей станицы Николаевской, узнаем, что соседи, отходящие вдоль железной дороги, далеко позади, а красные рядом с нами. У нас полдивизии оставлено далеко. Спешно посылаем охранение, посылаем предупреждение, ориентируем подошедшие с нами части 12-й Уральской дивизии – через час загорелся бой. Частям дивизии в авангарде пришлось проделать за день и ночь до 50 верст, чтобы соединиться.
Вот большая казачья станица Волчья. Отличные дома, как в городе, жителей уже мало. Морозный день. Рядом местность очень удобная, чтобы задержать красных. Решили занять опушку рощи. Красные появились верстах в шести и, выяснив, что невыгодно двигаться прямо по открытой местности под огнем, видимо, изобретают какой-то маневр. Можно и нам предпринять что-нибудь, но есть уже сведения, что люди, одетые в ботинки с обмотками, не выдерживают. Единственный возможный способ действий – тоже маневр. Отказываемся, так как имеем сведения, что соседи на севере – сибирские казаки – поддались назад больше чем нужно.
Близко Омск: что там? Слышали, что там формируется какая-то ударная группа, что укрепляется плацдарм на западном берегу близ Иртыша, что предполагается активная оборона. По другим сведениям, готовятся двинуть армии на юг, так как Иртыш еще не замерз, мост один – железнодорожный, паромная переправа невозможна, так как плывет мелкий лед – «сало». При всем желании верить в благополучный выход из положения, веры нет, и, зная по опыту, как скверно полагаться на всякие укрепленные полосы, плацдармы, обеспеченные переправы, мы настойчиво добиваемся подробной ориентировки.
Узнаем, что какая-то группа действительно формируется, но едва ли будет готова, что к постройке укреплений приступлено, но сделано мало; что Иртыш еще не стал, через мост начали проходить различные обозы. Что штаб армии наводит порядок на мосту. Скоро узнаем, что ушел с поста главнокомандующего генерал Дитерихс, будто бы из-за разногласий относительно обороны Омска. На его место назначался генерал Сахаров; командующим 3-й армией назначался генерал Каппель.
Перед самым Куломзином дивизия получила распоряжение занять укрепленную позицию, а затем отойти в резерв в Куломзино, передав позицию Екатеринбургской дивизии. Отпало одно – Иртыш 10–11 ноября стал, возможна переправа по льду. Ночью на 14 ноября мы узнали, что направление вдоль железной дороги Омск – Ишим особенно угрожаемо – наши части отходят назад не задерживаясь. Ночь была холодная, снежная, с метелью. Один из наших батальонов, бывший впереди на дороге в будке, подвергся нападению; трудно было разобрать силы и кто именно нападал, но люди нервничали.
После бессонной ночи, рано утром 14-го, я выехал в свой тыл, чтобы осмотреть приготовленные укрепления и затем сговориться с начальником Екатеринбургской дивизии о смене нас. Имея карту с обозначением проектированных укреплений, я с большим трудом отыскал на местности готовые укрепления. На ровном поле вырыто несколько окопов, по обе стороны железной дороги. Окопы не в рост, а большей частью «с колена»; ни землянок, ни приспособлений для обороны построек в общей линии. Перед окопами набросаны круги колючей проволоки, местами колья. Кто-то из спутников иронически заметил: «Посадить бы строителей на морозе на часик в эти укрепления». Мы не стали даже осматривать подробности; приказано было занимать впереди разные будки, разные постройки и скирды.
Не успела еще Екатеринбургская дивизия сменить нас, как мы получили распоряжение выступить из Куломзина, перейти Иртыш по льду около монастыря и стать в южных предместьях города. Тронулись и через несколько часов получили распоряжение двигаться за Омск. В Омск будто бы с севера вошли красные. Был уже вечер. В сумерках послышались взрывы, начались пожары. Мороз, мгла, красное от зарева небо, бесконечная лавина людей и обозов по пути из Омска к востоку. Все будки на железной дороге забиты так, что не протолкаться; всякое жилое помещение забито до отказа. Еще из Куломзина наши полки отрядили команды на ст. Омск, так как слышно было, что эвакуация не удается, а есть погруженная одежда. Действительно, удалось добыть небольшое количество валенок.
Ночь под Омском была кошмарной. Деревень близко нет, есть кое-где заимки. Сильный мороз. Только к полуночи мы добрались до деревни (кажется, Некрасове). Когда мы подъезжали, думали, что она горит, так было много костров на улице. Вся улица была загромождена повозками, усталые лошади лежали, а местами вместе с ними и люди. В избу попасть было невозможно – все битком набито. Мы до утра продремали в санках, изредка греясь у костров.
Судьба Омска была предрешена на Тоболе; отходя, мы знали, что он не будет удержан, но все же строили себе иллюзии, что там, в тылу, может, соберут какой-то кулак и ударят. Когда же ожидаемое свершилось, когда все воочию увидели оставляемое, увидели ленту беспомощных эшелонов с людьми и всяким имуществом, настроение совершенно упало. Слышали, что большинство людей, мобилизованных в районе Омска, остается; оставались даже офицеры.
Наш состав оставался в целости; но на что же надеяться дальше? Единственно – это держаться друг друга, и там будь что будет. Мне на второй день рассказывали комичный случай в 13-м полку. Полк ночью остановился отдохнуть в заимке, в полку много татар. Ночью один из солдат-татар начал проверять, кто из офицеров где спит или лежит. Подходит со свечой к одному:
– Это ты спишь, господин полковник?
– Я, а тебе что!
– Спи, спи; а где полковник?
– Спит в другом углу!
– Ну, спи, спи.
Оказывается, кто-то пустил слух, что офицеры остаются в Омске и оставляют солдат. Это была проверка, где старший командный состав полка.
С отдачей Омска закончился большой период борьбы с советской властью, второй после нашего весеннего наступления, в который, казалось, еще возможно было добиться перелома в борьбе в нашу пользу. Трудно делать какие-нибудь определенные исчерпывающие выводы об этом периоде. Кто прав, кто виноват, что помешало создать лучшие условия для борьбы, когда все знали, что от успеха зависит все. Однако можно сказать, как и о первом периоде: 1) Фронт хотя и с осложнениями, но все же дал целое лето для подготовки к осеннему наступлению. 2) В сентябрьские дни, в течение целого месяца боев, он выполнял почти собственными силами наступательные задачи. Противник разбит не был, но ему не удалось безнаказанно послать части на фронт Деникина, и он был сильно потрепан. 3) Тыл почти ничего не дал; на реке Тоболе так и остались на фронте те же части, что воевали с 1918 года.
Мы не знаем, конечно, всех условий тыловой работы; обстановка была там чрезвычайно сложная: и вмешательство «союзников», и разные проекты, и тыловые осложнения, и работа эсеров и большевиков, и собственные неурядицы и бюрократизм, мечтавший о подготовке учреждений всероссийских. Но все же и в этой обстановке мы надеялись видеть какое-то осязаемое проявление воли, направляющей все к благополучному разрешению единственно важной задачи – победе над большевиками. Но увы, мы не чувствовали, что в тылу, во имя успеха дела, устраняются все препятствия. Мы видели часто обратное.
К. Сахаров44
Белая Сибирь45
Борьба за власть
После долгих и трудных странствий, частью верхом, частью на телеге, через киргизские песчаные степи, приехали мы с женой из Астрахани в Уральск, дважды перейдя красный фронт. Впервые после почти годового пребывания в советской России и после шестимесячного заключения в большевистской тюрьме я попал в город, где свободно развевался Русский национальный флаг. Была осень 1918 года. По всей шири Руси от Карпат и до Тихого океана вспыхнули восстания против большевиков. Самые разнообразные слои, классы и национальности русского народа поднялись против угнетателей и кровавых тиранов, захвативших власть в стране именем народа и для народа. Национальная Русь восстала против интернационала.
Эти восстания были разрозненны и неорганизованны. Это было чисто стихийное движение. Только на Волге и к востоку от великой русской артерии восстания русских людей нашли помощь и поддержку в Чехословацком корпусе, примкнувшем к ним в своем стремлении пробить путь на восток.
Отрывочные сведения обо всем этом доходили и в большевистский стан, достигали и Астраханской тюрьмы, где нас сидело свыше ста офицеров; сердца были полны надеждой, – казалось, что все мы, русские люди, довольно уже научены пережитой революцией, чтобы не делать снова ошибок, чтобы найти объединение для общей работы по очистке нашего дома – России от большевистской нечисти.
Уральск кишел наподобие растревоженного муравейника. Все население жило одним общим интересом – разбить красные полчища большевиков, отнять у них Саратов и Астрахань для соединения с Добровольческой армией генерала Деникина. Мобилизация в станицах проходила полностью, и все мужчины шли в ряды сражающихся; не хватало винтовок, шашек и пик – шли с вилами и косами, составляя особые отряды для поддержания первой линии.
Все политические лозунги были отброшены. Одна мысль управляла этим народным движением: покончить с большевизмом и тогда заняться разрешением вопросов внутреннего устройства. В этом казаки сходились с самарскими и саратовскими крестьянами и соединились с ними для борьбы против общего врага.
В Уральске впервые пришлось узнать отголоски правдивого положения на новом белом фронте. Грустными, похоронными аккордами прозвучали известия с Волги.
– Казань отдали большевикам…
– Сколько там погубили людей. Какие огромные запасы оружия и военного имущества оставили красным…
– Пал Симбирск…
– Самарское правительство не желает поддерживать казаков и Сибирскую армию…
Помню заседание Уральского казачьего круга и доклад на нем делегатов, вернувшихся из Уфы с так называемого Государственного совещания. Зал наполнен серьезными бородатыми казаками, только отдельными пятнами мелькают пять-шесть молодых безусых лиц; глаза у всех смотрят пытливо и напряженно; так искренне, с таким страстным желанием найти правильный путь, путь объединения в работе-борьбе. И иметь в ней успех. Полная тишина и порядок, в отличие от всех шумных и говорливых собраний 1917 года.
Два казака, приехавшие из Уфы, делают доклад. Тихо и медленно говорят они по очереди; каждое слово их звучит в этой тишине так четко, как благовест ночного колокола.
«…Образовали Российскую директорию из пяти лиц: Авксентьев, генерал Алексеев, Чайковский, Астров и Вологодский; так как некоторым прибыть сейчас нельзя, то будут их заместители; сейчас состав такой: председатель Директории Авксентьев, члены: генерал Болдырев, Вологодский, Зензинов и Виноградов. Порешили на совещании, что вся полнота власти сосредоточивается у Директории. Все остальные правительства должны подчиниться ей… Мы подписали за уральское казачество это обязательство, чтобы Россия могла объединиться в борьбе против большевиков».
Ни слова возражения. В глазах и на лицах спокойная радость удовлетворенных ожиданий и окрепшей надежды.
– Согласен ли круг и одобряет ли действия избранных делегатов? – спрашивает председатель.
– Согласны, согласны… – проносится дружное эхо всего круга…
Из Уральска я отправился автомобилем в Бузулук, чтобы оттуда проехать через Самару в Уфу, в новый главный штаб для получения назначения.
Путь до Бузулука, сам этот городок Самарских черноземных степей, дальше тряский вагон до Самары, набитый пассажирами так, что в четырехместном купе нас уплотнилось десять человек, – все дышало какой-то сумятицей, взволнованностью, неуверенностью. Крестьяне бузулукского большого села Марьевка, где мы остановились на ночлег из-за поломки автомобиля, жаловались мне на чехов и на новое правительство учредителей за то, что те произвели жестокую экзекуцию этого села.
– Вишь ты, Ваше Благородье, или как тебя называть, не знаем, – у нас некоторые горлотяпы отказались идти в солдаты, ну к примеру, как большевики они. А мы ничего, мы миром решили идти. Скажем так: полсела, чтобы идти в солдаты, а полсела против того. Пришли эт-то две роты чехов и всех перепороли без разбору, правого и виноватого. Что ж, это порядо-ок?
– Да еще как-то пороли! Смехота! Виновных-то, самых большевиков, не тронули, а которых, хорошие мужики, перепороли. Вон дядя Филипп сидит, сидеть не может, а у него два сына в солдаты в Народную армию ушли.
Крестьяне сочувственно и безобидно засмеялись, а дядя Филипп неловко заерзал на лавке.
– Что ж, барин, и когда конец будет этому? Кто порядок-то установит? – обратился ко мне с вопросом старый крестьянин в армяке и лаптях.
Все сдвинулись ближе.
Я старался объяснить им, что теперь порядок можно установить только самим нам, всем сообща, покончив с большевиками. Слушали крестьяне молча, а в конце дядя Филипп ответил за всех:
– Эх, не то, барин, – нам бы какая власть ни была, все равно, – только бы справедливая была да порядок бы установила. Да чтобы землю за нами оставили. Если бы землю-то нам дали, мы бы все на Царя согласились.
– Да уж чего тогда бы лучше, – раздались голоса в толпе.
Меня, как жившего в Самарской губернии раньше, до войны, не удивил этот заключительный аккорд, так как тамошние крестьяне всегда отличались большим, почти святым почитанием Царя; все они большие хлеборобы, и редкий делал запашку меньше чем двадцать— двадцать пять десятин. Постоянная мечта их была разжиться землицей, прикупить ее; ну а здесь такая благодать – даром свалилась.
Но меня поразило, что наши дивные черноземные Самарские степи, эта житница России, лежали теперь почти не тронутыми. Десятки верст пробегал автомобиль, далеко, до самого горизонта, уходила волнистая плодородная степь, и только редкими местами попадался табор пахарей или плуг в работе среди черного блестящего вспаханного поля. В прежние годы в сентябре, бывало, вся степь была черным-черна, вся грудь ее распахана для нового весеннего посева. В селе Марьевка несколько тысяч населения и, несмотря на будни, почти все оставались дома. На мой вопрос о причинах такой перемены как раз теперь, когда они завладели всей землей, крестьяне ответили так:
– Видишь, барин, нам это не способно: одно дело, кто землю-то нам продал? Неизвестно. Какие они права имели землю-то отдавать? Ее распашешь, а потом отвечай. А другое дело война, – все равно пропадет. Ты посеешь, потрудишься, а Красная гвардия придет, половину стравит (истопчет), а другую половину отнимет…
В Бузулуке я увидел первый полк новой Народной армии. Без погон, со щитком наподобие чешского на правом рукаве, почему-то с георгиевской ленточкой, вместо кокарды, на фуражке. Вид полутоварищеский. Сам городок, обычно шумный, центр одного из наиболее хлебородных уездов России, жил теперь тихой, спрятанной жизнью, точно дом, из которого уехали главные хозяева.
В вагоне пришлось ехать вместе с несколькими офицерами. Двое из них сидели, а одному места не хватило, стоял. В углу же разместился какой-то железнодорожник с яркой желто-голубой «украинской» ленточкой в петличке и на утрированно хохлацком жаргоне разглагольствовал о «самостийной У крайне». Слушал его поручик, слушал да и говорит:
– Вот что, пане добродию, вылезайте-ка из угла, – я хочу сидеть. Дорога-то ведь наша русская, да и Самарская губерния тоже России, ей в Украйну не попасть.
– Как так? Позвольте, какое вы имеете право? – перешел на литературный русский язык желто-голубой железнодорожник.
– А такое, пане добродию, что я русский, значит, здесь дома у себя, хозяин. Вот поезжайте на Украйну, там и посидите. Ну! Вылезайте!
Сконфуженно оглядываясь, под смех остальной публики вышел новоявленный украинец из купе и даже из вагона.
Ехали и делились впечатлениями, интересами текущих дней, событиями войны с большевиками. Офицеры Народной армии высказывали недовольство отношением к ним и их полкам Самарского правительства, что развели опять политику, партийную работу, скрытых комиссаров, путаются в распоряжения командного состава; начали чехословаков втягивать во внутреннюю политику, проводя среди них то же, что Керенский проводил в 1917 году в Русской армии для ее развала.
Выяснилось, что Самарское правительство учредителей пропагандирует всячески против Сибирского правительства и Сибирской армии, называя их «монархическими и контрреволюционными»; а в то время если что и можно было поставить в вину сибирякам, то это их слишком сильный крен в сторону социалистов-революционеров.
Оказалось, что много надежд возлагалось в то время русскими людьми на союзников. Как раз в то время прозвучали торжественно на весь мир ноты английская, французская, итальянская, японская и американская. Все они призывали русский народ к продолжению войны против Германии и «их прислужников и агентов большевиков». Все они заявляли о своей готовности активно поддержать в этом Россию и клялись, что не преследуют никаких личных целей, что ни одна пядь Русской земли не будет никем занята. До чего была сильна и наивна эта вера русских в помощь союзников! Одна девушка-курсистка, ехавшая из Бузулука на высшие курсы в Самару, уверяла, что на Волгу направляются пять японских дивизий, что «в Самару приехали уже триста японцев-квартирьеров»…
Подтверждались тревожные слухи с Волжского фронта. Передавали об ужасной социалистической панаме в Казани, где Лебедев и Фортунатов, два партийных работника, забрали власть в свои руки, митинговали с рабочими во время боев, вели переговоры с большевиками и… предали армию.
Самара произвела жуткое впечатление. Большой город, центр торговли Поволжья, с несколькими стами тысяч жителей, казался обреченным местом, ждущим своего приговора и часа. Огромная толпа, улицы полны народом, но все двигается тихо, без обычного шума. Почти на всех лицах написано боязливое, тревожное ожидание и мольба о спасении.
Многие из слухов подтвердились. Я нашел здесь своего однокашника по кадетскому корпусу, полковника С.А. Щепихина46, который исполнял должность начальника штаба Народной армии при командующем Волжским фронтом, чешском поручике Чечеке, произведенном учредителями в генерал-майоры. Вот какими приемами искали они себе опору и сторонников!
Положение было хуже 1917 года; чехи под влиянием пропаганды уже разваливались, воевать не желали; Народная армия была крепка только офицерами и добровольцами, да и то в частях, к которым эсеры получали доступ, там исчезала дисциплина, а с нею вместе и боеспособность. Только отряды полковников Каппеля и Степанова оказывались всюду сильны и духом, и боевыми качествами, так как эти начальники не подпускали и близко к своим войскам социалистов.
Они брали Казань, Симбирск. Каппель проявлял прямо чудеса маневра со своим маленьким отрядом. Но в Казань, сейчас же по взятии ее, нагрянули эсеры и так все перепортили, что наши едва успели уйти, некоторые там и остались большевикам. Бросили одного сукна на пятимиллионную армию более ста аэропланов с огромным имуществом, массу пулеметов, патронный завод; в Симбирске оставили огромный инженерный парк всей Императорской Русской армии. А все оттого, что учредители мешали и противодействовали вывозу: боялись, что все это может попасть в руки Сибирской армии. А понятно, по Волге почти все можно было вывезти. От других офицеров пришлось слышать рассказы о таких же непорядках в Хвалынске, Вольске, Николаевске. Офицерство и добровольцы были возмущены до крайности.
– Мы не хотим воевать за эсеров. Мы готовы драться и отдать жизнь только за Россию, – говорили они.
– Такое предательство, хуже 1917 года, – горячо рассказывал мне капитан, трижды раненный в Германскую войну и два раза уже в боях с большевиками. – Как только успех и мало-мальски прочное положение, они начинают свою работу против офицеров, снова натравливают массы, мутят солдат, кричат о какой-то «контрреволюционности». А как опасность, так офицеры вперед. Посылают прямо на уничтожение целые офицерские батальоны.
Когда я приехал в Самару, оттуда шла уже спешная и довольно беспорядочная эвакуация, управляемая чешскими комендантами.
– Завтра (это было 19 сентября 1918 года) будут брать места в поездах уже с револьверами в руках.
С большими трудностями и неудобствами, бесконечно долго простаивая на самых маленьких станциях, добрались до Уфы.
Здесь на вокзале стоял оцепленный чешскими часовыми поезд, состоявший из шести классных пульмановских вагонов. Часовые никого не пропускали, образовав на платформе около вагонов большой свободный полукруг.
– Чей это поезд? – спросил я одного чеха.
– Нашего генерала Дитерихса.
– Какого Дитерихса, русского генерала?
– Ну да, а теперь он нами командует, наш генерал.
– Могу я его видеть?
– Да, только его сейчас здесь нет, он поехал в город автомобилем на совещание с Директорией.
Отправился я в штаб Верховного главнокомандующего генерала Болдырева, члена Директории. И штаб, и Директория, и все ее канцелярии помещались в большой «Национальной» гостинице. Здесь сразу пришлось окунуться в обстановку, напоминавшую до жуткости недоброй памяти дни лета и осени 1917 года. Та же беспорядочная снующая без дела толпа, масса юрких штатских брюнетов с горбатыми носами, всюду грязь, неубранный сор, стучат пишущие машинки, здесь же доступный для всех телеграф с армейскими аппаратами Юза.
Шел длинными коридорами, ни от кого не мог добиться толку, как пройти к начальнику штаба. Наконец в самом конце коридора, при входе в ресторанный зал, один офицер мне помог.
– Да вон он сидит у стола, генерал Розанов47, начальник штаба.
Опять старый знакомый, еще с довоенного времени, с которым вместе сражались в памятных героических Люблинских боях августа 1914 года. Тепло встретились. Оказалось, что генерал Розанов только несколько дней сам прорвался через большевистский фронт.


