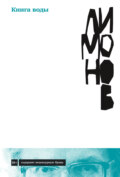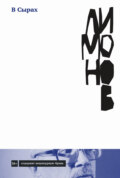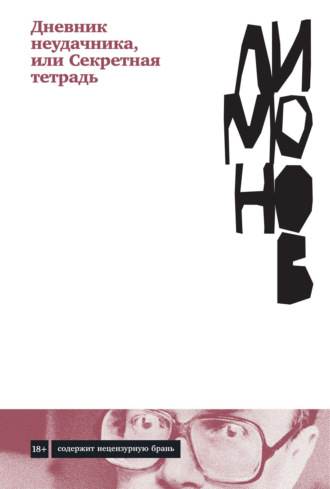
Эдуард Лимонов
Дневник неудачника, или Секретная тетрадь
Издатель П. Подкосов
Руководитель проекта А. Казакова
Художественное оформление и макет Ю. Буга
Корректоры О. Петрова, Ю. Сысоева
Компьютерная верстка М. Поташкин
© Эдуард Лимонов, 1979
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2021
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
* * *
Среди других народов поселяются обычно неудачники. Великое и отважное племя неудачников разбросано по всему миру. В англоязычных странах их обычно называют «лузер» – то есть потерявший. Это племя куда многочисленнее, чем евреи, и не менее предприимчиво и отважно. Не занимать им и терпения, порой целую жизнь питаются они одними надеждами…
Следует отметить одну характерную особенность – мужчины и женщины этого племени, добившись успеха, с легкостью отрекаются от своих, перенимают нравы и обычаи народа, среди которого к ним пришел успех, и уже ничто не напоминает о том, что некогда принадлежали они к славному племени неудачников…
ИЗ БРИТАНСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
Неудачникам посвящается
* * *
Если целый день писать, а под вечер включить все две лампы в каморке, вылезти на узкий балкончик отеля и поместиться там, максимально отклонившись к улице и к небу, – то можно видеть со стороны: как бы ко мне люди пришли, как бы праздник. Еще если стаканов на стол наставить.
А люди где? Ну, они слева и справа, так вроде сидят, что из окна не видно, взор не досягает…
СНЕГ
Утром шелестение. Снег. Сквозь полуприкрытые веки, без очков, близоруко из одинокой постели в отеле с тревожным вниманием – снег.
Вдруг почему-то вспомнил он двух своих жен. С одною смотрел из окна, молодой, двадцати двух лет был – пышно и томно целуясь. Пышная была женщина, томная. Смотрели в снег. Запах каких-то духов, октябрьско-ноябрьская пластинка и грусть. Со второю неоднократно тоже в открытое окно – снежинки волосами и губами ловя. Как был счастлив!
Беспорядочное движение. Вместо чтения со словарем умной американской книги, полезной для его честолюбия, – битый час глядит в окно и вспоминает школьные знания. Какой высоты облака, может, от ветра зависят? А над Атлантикой тоже? Тает в воде? Пусто. Бедные рыбы! Холодно. Бедные мертвецы в земле. Бр-р! С испугом оголив руку. Не дай бог умереть зимой. Снег. Очевидно, на весь день.
Идти некуда. Не ждут родители – их нет. Не ждут друзья – их нет. Не ждет любимый или любимая – таковых нет. Не ждет работа – ее нет – она со мною слилась. Не ждут собутыльники – пить перестал. Горько. Зачем вообще вставать из постели.
Самое смешное, что он идет снизу тоже.
Закрыв глаза челкой, тихо качаясь, поглаживая сквозь брюки бесполезный член.
Была одна. Страшненькая. Звонил ночью, приходил к ней. Набрасывался прямо у двери. Была в восторге. Запросилась встречаться днем. Сказала, что любит. Вот все и сгубила. Утром медленно пел в американской комнатке с Бердслеем Ив Монтан. Ночью-то было куда лучше. Не раздеваясь, в пальто, прямо на полу.
«Стравберри джем» – 1 доллар 79 центов. Утром тост – масло и джем. Приятный запах поджаренного хлеба. Зачем мне все это – Эдуарду Вениаминовичу – сыну Вениамина Ивановича, крещенному по православному обряду, родившемуся в 1943 году.
Возьму нож и сижу-гляжу. Часами, бывало, глажу, а если выпью немного – целую. Что хочу – чему молюсь – неизвестно. А то перед зажженной свечой молюсь Иисусу Огненному о любви. Иисусу молодому – дай любовь!
В сущности, ни одной молитвы до дела не знаю и в этих делах плохо разбираюсь.
Девочка также была одна. Дочь известного человека. Интересовала девочка. Впервые за долгое время. Знал – влюбился, ибо стал очень глуп. Разница – пятнадцать лет, всего четыре встречи, два поцелуя – жалкая арифметика. Телефон – чудовище. Родители – мешающие, она сама – мало заинтересованная. Разными темпами миры у нас двигались. В ее возрасте все сонно и еле-еле. В моем – бешеное кружение. В случае с этой девочкой ничего не известно – и не оборвалось, а так – затерялось где-то в телефонных проводах, запало в какое-то углубление, в канавку, и лежит. Оно.
Снег движется теперь не так плотно, между снежинками больше воздуха, изменилась их форма. При свете в моей комнате и при двух пятнышках на моей левой контактной линзе я как бы погружен в сумрак египетский, в лазаретное освещение, в полу – тот свет.
На мне китайская лилового шелка блуза. Подобрал я ее в каком-то подъезде на полу. Даже не стирал – чистая была. Не то пьяный оставил – не то переборчивый выбросил. Пришлась впору. Люблю. Шелк потом. Шелк нравится.
Был один парень. Танцевал. Хороший парень очень. Последнее отдаст. Лет на пять старше, на шесть. Остался я как-то с ним. Ласковый он. Шерсти только много. Член, простите, большой. «Кончил, говорит, я в тебя». Ну кончил так кончил. Запонки утром подарил. Из золота. Грустно было. Я люблю, когда грустно. Зачем я с ним не остался? (А я не остался.) Да так, знаете, не люблю тихой жизни. С ним меня тихая жизнь ожидала. От хорошего всегда бегу.
Конфетку, что ли, скушаю. Купил вчера русских конфеток на Первой авеню в даунтауне. Для себя бы стараться не стал. Девушка одна – дочь алкоголика и убийцы – появилась, для нее купил, конфеты любит. Нюшкой я ее про себя прозвал, вместо ее американского имени. Я, говорит, до этой жизни была религиозной проституткой в Греции. И кошкой еще она была. Укатила в Орлеан. Всего два раза и виделись. Сны ей снились, последний – что ее семь человек изнасиловали. Красивая.
Еще одна была 24 часа. Маленькая, в чем душа держится. Тянет в постель – мне смешно. Затащила. А легла – грудка белая, женщина двадцати лет, да какая. Сидели в «Джоннис дэй» – ресторанчик в Вилледже, – вино пили. Люблю, говорит, тебя – свой ты, мой – единственный. Вернулись, легли, а до самолета (улетала она) – два часа только. Как зверюшки – не растащить нас, еле расстались. Письмо написал – член мой, пишу, без тебя тоскует, без п. твоей. Ответила. И такое бывает.
Пристрастие к белому. Четыре пары белых брюк – и все мало. И зимой в белых брюках хожу. Однажды в дождь, на грязном в аптауне Бродвее, ночью, полупьяный русский интеллигент сказал мне восхищенно: «Ты как луч света в темном царстве. Вокруг грязь, а ты в белых брюках прешь, ошарашиваешь собой. Правильно!» Комплимент сделал.
Снег уже еле видим. Горизонтально-быстрый, мелкий. Через день у меня рождение. День моего рождения. Я проведу его один, изощренно что-либо сочиняя, питаясь мясом и вином. А потом пойду на Восьмую авеню и выберу себе проститутку. Недорогую. По-видимому, белую. Полукрасивую-полувульгарную.
Снег кончился. Постель моя, аккуратная впрочем, имеет в своем облике какой-то изъян, неполноценность. Глядя на нее со стороны, я это понимаю, только объяснить невозможно. А сейчас загремел гром. То вдруг все освещается, то затемняется.
* * *
Если выйти из отеля около часу дня. И пойти по любой авеню в даунтаун, то постоянно будешь идти в солнце. И это тепло, даже если февраль.
* * *
Иногда даже в глазах очень богатых людей, чаще женщин, я вижу дикую грусть. Они воспитанны, прилежны, никогда не скажут, не нарушают. Но тут мне хочется обнять иссохшую старуху – бывшую красавицу, – прижать ее седую голову к своей груди и гладить по снежным коротким волосам, говоря:
– Ну что, моя маленькая, ну успокойся. Ну, ничего.
Ну пусть так, ну что делать! Успокойся!
Маленькая моя!
* * *
А. М.
Я помню какие-то имена.
Особенно Манфред и Зигфрид.
Я не знаю, откуда они пришли, но они есть во мне – эти имена.
Манфред сидит на берегу – Зигфрид купается в озере.
– Красивые белые кувшинки, – говорит Манфред.
– Я не знаю, куда плыть! – кричит Зигфрид.
– Плыви на мой голос! – кричит Манфред.
Зигфрид выходит из воды. Манфред набрасывает на него какую-то ткань и его вытирает.
Вытирая, он и целует его одновременно. Спускаясь с поцелуями по чистой коже Зигфрида, на полурасстоянии от земли он находит нечто. Губы его останавливаются в этом месте.
Музыка леса сопровождает затянувшееся свидание.
Что бы они потом ни надели – какие бы наряды.
Подадут ли карету или сядут в автомобиль.
Я люблю вечернее небо. Сужающийся летний вечер.
Тихую тоску собственной прошедшей юности.
И неожиданно Вас – мой милый друг.
Мой бледный, цветочный, танцующий друг.
* * *
Огородики Нижнего Ист-Сайда. Репа и морковь.
В Гарлеме зацветает чеснок.
На Пятой авеню роняет свои плоды на землю помойное дерево.
Ветер трясет золотые заболоченные бамбуковые рощи Вест-Вилледжа.
Поют птицы, летают стрекозы.
Мистер Смит и мистер Джонсон шагают по размытому левому берегу Бродвея в резиновых охотничьих сапогах. Время от времени Смит вскидывает ружье и стреляет в выпархивающую из зарослей утку.
Самое оживленное место – где еще сохранилась табличка «Вест – 49-я улица», – в этом месте единственная переправа через Бродвей. В развалинах на берегу меняют дичь на кофе и сахар, пушнину – на кости и рыбу и продают одежду, в которой большая нужда.
Апрель. Хорошо. Воздух-то какой. Наконец-то можно согреться. Обитатели некогда Великого города, почесываясь, греются на солнце.
* * *
Нравится ли вам термин «гражданская война»? Мне очень.
ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ
Я люблю безумие. Вся моя жизнь тому примером служит. Я культивирую не логику, а наслаждения. Мои болезненные ощущения доставляют мне удовольствие.
А когда мне нужно помучить другого человека, я выхожу ночью и ищу жертву.
Несколько раз я уже кое-что попробовал и был счастлив.
Сегодня я нашел доллар на улице. Потом я купил себе тюльпаны.
Позавчера я ударил свою жену ножом. Впрочем, она отделалась испугом.
С этой женщиной у меня таинственная связь. На первый взгляд у нас с ней простые отношения – она ушла от меня год назад. Но что может знать толпа обо мне и о ней?
Существует невидимое взгляду.
Кто-то из нас жертва, кто-то палач. По временам мы меняемся ролями. Даже самые умные люди ничего не поймут. В этом деле может разобраться только дьявол. Он же и заварил эту кашу.
На вид, знаете, она и, вроде, Лимонов. Но я же вам говорю, что дело куда сложнее.
Порой я гуляю, подняв воротник моей шубы. Для проходящих людей в витринах просто ботинки и шляпы. Для меня это давно не ботинки и шляпы, а резкие и таинственные символы и знаки, которые вещают, угрожают, а порой я от них спасаюсь, как от настоящих преследователей. Да они и есть настоящие – особенно те черные сапоги до колена с 45-й улицы – я их просто боюсь. Они определенной мелодией звучат, и улыбаются, и исходит запах.
Я люблю многое в городке, где сейчас живу. Он – Нью-Йорк – довольно обширен. Его мусор – самый красивый мусор в мире. Я знаю одного человека, который пытается мусор рисовать. Но у него пока плохо выходит, то есть рисует он хорошо и правильно, но мусор следует рисовать. Как цветы. Я знал одного художника – он был сумасшедший – ах, как он рисовал цветы! Он был моим другом, временами он спал под роялем. А вообще, это было так давно, что голова болит.
Мне, конечно, доступны простые забавы. Например, я жду весны. Я не говорю, что весна это благо – я жду ее как гниения – гниение же мне мило. Наконец набухшее за зиму вскроется и обнажится – вытечет гной, лица во многом станут говорить сами за себя, и городок станет огромным скопищем движущегося мяса – мясу присущи запахи и бесцельное броуновское движение – как обучили меня в школе, в химических и физических полутемных кабинетах умные еврейские учителя, размахивая колбами и ретортами.
Я никогда не был жесток. Я не поджигал собак и кошек, не обрубал хвостов или лап, не охотился на крыс или птиц. В полях и лесах я ходил бесцельно. Мучить животных или растения не доставляло мне удовольствия. И я не знал еще счастья мучить людей.
Я набрел на Великое Открытие за несколько дней до того, как мне исполнилось тридцать три года. Это была самая фантастическая пора моей жизни – я был на взлете – любимая женщина ушла от меня, дьявольски похохатывая, – я парил, я страдал каждый день и каждую ночь – я бился в истериках и мастурбациях – они были очень сложны. Я глотал собственную сперму, перемежая ее глотками вина, – нектар и амброзия богов. Тогда-то наконец исчезла из моей жизни скука, и стал я жить празднично.
Великое Открытие совершил я, когда душил жену. Вернее, когда, недодушив, отпустил. Я посмотрел на нее – до этого наглую и гордую своими успехами самки – количеством и качеством мужских членов, в нее входящих. Я посмотрел… она была… О, это мгновение я никогда не забуду. Ради этого только и стоит жить. Она мычала. Халат был расстегнут, пустые ватные грудки топорщились по сторонам, на красивом животе была некрасивая складка. И она хотела жить. Я мог сказать ей – целуй мои ноги, ешь мои испражнения, лижи меня – она бы все тотчас исполнила. Я со странной улыбкой потрогал ее голые груди – я сам мало что понимал, но что было понимать, я почувствовал удовольствие, заливающее меня. «Я выебу тебя и отпущу», – сказал я, но мне уже не нужно было ее выебать. В этот момент у меня случился оргазм – там брызнуло у меня в брюках, и я непроизвольно потерся спиной о спинку глупой деревянной лавки, на которой мы сидели (она служила нашей бедной семье диваном). И тогда я понял, что я люблю насилие. И стало мне спокойно-спокойно. И все тревоги мира мягкими ватными облаками улетели в трансцендентальное черное небо.
Так я совершил Великое Открытие. Люди – это болезненное жалкое мясо, прищеми его покрепче, и где тот, что философствовал, бизнесменствовал, воздвигал, был авторитетом и членом, и где та, что была такой-то и как будто бы любила то-то и то-то, только мычат и плачут. И просят…
Я живу с моим открытием. Мне хорошо с ним жить. Я вовсе не жесток, меня многие считают хорошим парнем. Но я почему-то равнодушен к путешествиям и не очень хочу денег. Страсть-то у меня другая. Я не могу отказать себе в удовольствии как-нибудь еще поглядеть на человека в таком мычащем состоянии, это особенно приятно по отношению к сексуально близким людям. Очень хочется. Мне запомнился, видите ли, тот оргазм, и я хочу его повторить.
Конечно, я боюсь закона. Я не согласен рисковать безоглядно. Само наказание меня не пугает, но я лишусь дальнейших возможных удовольствий.
Когда будут апрель и май. И зазмеится змеями зелень, и лопнут растения, и завоняют женщины из-под юбок или сквозь ткань брюк – занеряшливятся и покроются прыщами наши городские секретарши. Когда совершится в природе очередная абсолютно необходимая революция, я попробую кое-какие приемы. Я знаю состояние, которое у меня при этом будет, и заранее мелко дрожу… Одни коллекционируют бабочек, другие – добродушные и покорные бугаи – играют в мяч. Я – странный мужчина.
* * *
Я вижу: почти все несчастливы. Что с ними делать?
Некоторые – часто актер и актриса – сойдутся, устав годам к сорока, и живут вместе. Страшно ведь поодиночке. И уж не перебирают друг в друге – терпят друг друга – лишь бы не одному – страшно ведь. И оголенные их глаза ужасом горят, когда они, друг в друга вцепившись, вдруг в «Пипле» напечатаны. Боязно. Оторвут.
* * *
В Нью-Йорке почти мертвецов не видно. Ухитрились их из жизни незаметно изымать. В домах трупы, кажется, не держат, друзьям для прощания не выставляют. Однако как бы части жизни лишены этим.
А помню, в Москве комнату снимал. Иду домой как-то, а там свет ночью. Необычно. Простые люди – соседи-рабочие всегда спят в это время. Вошел – стало понятно. «Толик-то наш отмучился!» – бабка-соседка говорит. Сосед – слесарь, 44, хрипевший за стеной от рака желудка, наконец покинул сей мир.
«Иди погляди! – потащила меня бабка. – Мы уже его сами и обмыли, и одели».
Я пошел, я как они, русский человек к смерти с почтением.
Лежит на столе в черном костюме, только без туфель, в носках. «Потрогай – ноги уж захололи», – говорит бабка – она пожала рукой его ступню в носке. Потрогал и я – холодная. Вещи слесаря Толика по обычаю роздали. И мне достались две белые рубашки и почти новые кожаные перчатки. Большое только все. Крупный мужик был. Я их кому-то отдал. Кажется, художнику Ворошилову.
* * *
Интересно, а счастливы ли Даяна фон Фюрстенберг или Джекки Онассис? Из журналов этого не узнаешь, из ТВ не увидишь, сами они этого не расскажут. Как-то показывали обезьян по ТВ. В Африке изучают их любознательные японцы.
Обезьяны выглядели счастливыми, но потом один лысый мужчина-обезьян устроил такую яростную истерику, что я изменил свое мнение. Лес, наверное, тоже осточертел. Все стволы да стволы. А вот лежат они хорошо. Дети, девочки, самки взрослые – кто кого поглаживает, кто еще что делает во взаимной ласке. Это бы у них перенять.
ДОЧЬ МАДАМ АНГО
Ох, эта дочь этой самой мадам. Мадам, судя по имени, была особа легкого весьма поведения, а дочь, очевидно, тоже двусмысленная особа, ибо яблоко от яблони, как говорится, недалеко падает. И характеристика в самом даже только названии заключена. Можете себе представить на минуточку, если мадам Анго переступила через все приличия и уже звучит двусмысленно, то какая же штучка дочь мадам Анго… Полный выходит разврат. Небось, на голое тело шубу наденет – и в ресторан, роза или какой другой цветок в волосах, а в ресторане скандалы устраивает и мужчины из-за ее дьяволицы дерутся. Кровь течет, зеркала вдребезги, многие токсидо порваны, и фраки. А она прохладной кожей из-под шубы пахнет, грудь с непристойным надтреснутым соском обнажит – и довольна.
Живет одна. Квартиру снимает. То один мужчина к ней подселивается, то сразу дюжина в гости похаживает. Никакой системы. Одевается так, что всем все ясно. Шляпа набок, почти пол-лица не видать. Штаны какие белые наденет, или платье как флаг на полквартала волочится. Уж и не шестнадцать лет, однако серьезности не видать. Курит, пьет и нюхает как лошадь. Втайне от всех страдает слабым здоровьем. Любит ебаться, даже пыхтит. Плохо кончит.
Мундштук всегда длинный в пальцах вертит. Плохо кончит. Умрет под забором. И все же забавна.
Ее система жизненных ценностей покоится на икре и шампанском. В литературе дочь мадам Анго выходит замуж за генерала или сенатора или умирает от роковой злой болезни (туберкулез, рак). В жизни – не всегда.
Любит свою п. Ласково ее называет, уменьшительно, употребляя многие суффиксы и окончания.
* * *
Я никогда не встречал человека, перед которым мог бы стать на колени, поцеловать ему ноги и ниц преклониться. Я бы это сделал, я пошел бы за ним и служил бы ему. Но нет такого. Все служат. Никто не ведет. Новой дорогой никто не ведет.
Никого нет на дороге.
* * *
Чистый двор вижу. Молодых людей вижу, мужчин, женщин. Сидят по-восточному, поют, друг друга касаясь и покачиваясь согласно. «Боишься ли ты воды?» – спрашиваю себя, проснувшись. «Я ее давно уже не видел», – отвечаю себе.
В чистый двор бы, к тем людям, не важно во что одетым, не важно – мало ли, много едящим, но с ними, – руки других чувствовать, без злобы вместе быть.
* * *
Купите мне белые одежды! Дайте мне в руки огонь! Обрежьте мне воротник. Отправьте меня на гильотину. Я хочу умереть молодым. Прекратите мою жизнь насильственно, пустите мне кровь, убейте меня, замучайте, изрубите меня на куски! Не может быть Лимонова старого! Сделайте это в ближайшие годы. Лучше в апреле-мае!
В туманные весенние дни наш Нью-Йорк необыкновенно прекрасен для одинокого человека.
В таком тумане хорошо искать тюльпаны на вершинах небоскребов, мило и одиноко перелетая с крыши на крышу на домосделанных шелковых крыльях.
* * *
Е. Р.
Черные ткани хорошо впитывают солнце. Хорошо в них преть весной. Когда-то, может быть, у меня было такое пальто. Сейчас я уже не помню. Хорошо скинуть пальто в лужи, перешагнуть, зайти в дверь, она хлопнет за спиной, купить жареного, выпить спиртного, утереться салфеткой, сойти со стула. Сказать ха-ха-ха! Выйти в дверь, завернуть за угол налево, вынуть нож, спрятать его в правый рукав, нырнуть в подъезд Вашего дома, – ударить ножом швейцара, прыгнуть в лифт и очутиться на девятнадцатом этаже. Поцеловать Вас в глупые губы, раздеть Вас к чертовой матери, выебать Вас, задыхаясь, в неразработанное детское отверстие, в слабую глупую дырочку. Шатнуться обратно к двери и получить в живот горячий кусок металла. И умирать на паркете. Лишь я Вас любил, пожалуй. Ботинки полицейских чинов в последний момент увидать.
* * *
– Друг мой Габриэль, любите ли Вы пытки? В сущности, приятно же наблюдать перекошенные лица.
– Я люблю пытки, соприкасающиеся с сексом. Чистая боль неприятна для наблюдающего, Эдвард.
– Согласен. Я – азиат, Габриэль, а восточная утонченность в этих делах общеизвестна. Азиаты – мы любим кое-что практиковать.
* * *
Грустная карьера майора из южной страны протекала под кипарисами и пальмами.
Я люблю дерево смерти в крови у ствола и чью-нибудь судьбу короткую для примера.
Нож, проткнувший географическую карту.
Офицера в берете – это мой адъютант.
Кровь на бинтах отвалившегося в траву солдата.
Запах одеколона и коньяка.
Я люблю свое будущее.
И черные южные тени.
И женщину двадцати трех лет, пробравшуюся, чтобы меня застрелить.
* * *
Вчера идет черный по Бродвею и меланхолически произносит: «Я люблю Кинг-Конга… Я люблю Кинг-Конга… Я люблю Кинг-Конга…»
Я ему улыбнулся. И он улыбнулся. Как заговорщики, переглянулись.
Мы-то знаем. И не в большой обезьяне дело.
* * *
Вчера же еще одного своего встретил. Он, согнувшись, жестом артиста предлагал автомобилю передвинуться. Белый, высокий, смешной. Этот сам мне так улыбнулся. Отец мой мне так не улыбался. Свой – ясно.
Два за день – не так плохо.
* * *
Парикмахер Жюль, коллекционер марок Серж и я как-то само собой подружились и образовали компанию. Сплотила нас страсть к общим полетам на закате дня. Часто в безоблачную погоду вы можете нас увидеть парящими над ближними холмами и озерами близ городка Сент-Поль – мы возлежим все трое в воздухе над большой сосновой рощей к юго-востоку от Пиэрии и вдыхаем ароматы.
Порою мы устаем. Больше всех достается парикмахеру. Он толстый и, чтобы не отстать от других, энергично машет руками и ногами – загребая широко и неуклюже. Потеет, бедный. К тому же он женат.
* * *
В мои годы, наблюдая всегда со стороны, знаю о людях все. Очень смешные. Те танцуют. Эти поют. Многие пьяны или накурились. Солидный человек, молчащий весь вечер, вдруг вскакивает и исполняет дикий подсознательный танец.
Все известно. Скушно. Кто постарел, кто стареет. Кто собирается стареть.
Как будто цель жизни – чтобы Эн устроился на работу куда хочет, Эм выпустил книгу, Е удачно вышла замуж, а Дэ купил браунстоун в Нью-Йорке.
Я – монгол-татарин. Мама моя из Казани. Мы, монголы, – хитрые и мудрые. Я хожу среди них с челочкой до бровей, вежливо улыбаюсь и скрываю дикую монгольскую скуку, которая зародилась в почерневших степях, у развалин городов, когда всех мужчин прирезали, наелись мяса, выебли всех полонянок – и что еще делать на этой земле? Полнота жизни. Ой, братцы, – скушно!
И ни к кому сердце с интересом не потянется, разглядывая…
* * *
Из магазина, а тепло ведь – переходя с пакетом еды улицу – ожидая зеленый огонь. А на другой стороне – лицами ко мне – школьники, самые младшие, с учителем. Вторая авеню.
И что вижу – она – лет шести, распущенные принцессины волосы, дубленочка, мехом отороченная и вышитая, распахнута, бесстыдно задрала левой ручкой коротенькую клеточную юбочку и чешет щелку. Голые ножки (носочки только) просматриваются до самого соединения, до щелки.
И так это все жутко волнующе – эти голые, очень выпуклые ножки, чарующе-серьезное личико с подпухшими губками. Боже мой! – все во мне заныло… А она спокойно чешет щелку. Дали зеленый, и они проследовали. Я оглянулся – уносилась вскачь с ранцем за плечами, опираясь на руки двух мальчиков…
* * *
Реклама:
Прежде чем люди в самолет садятся – через таможню все идут, и электронные двери свистят беспрерывно – у всех калькулейтор-спешиалист в кармане или в сумочке. Девушки, юноши, старики, черные, белые – все имеют.
– Я ебал ваш калькулейтор – ничего считать не буду!
– Я ебал ваш калькулейтор – ничего считать не буду! – пропел вдруг я громко и согласно и подпрыгнул даже в ответ на эту рекламу. Ну, на меня они не рассчитывали.
* * *
– Эй, перевозчик! Перевези меня на тот берег Бродвея – я еду купить немного соли для моей семьи. У нас двадцать восемь человек – трое соли совсем не едят.
И ступил ногой на мокрые, плохо обработанные доски парома. Кое-как наладили паром сообща несколько семей с правого и левого берегов. Вот уже и «Спички – Соль» видно. В камнях-развалинах приютилась. Солнышком освещена.
* * *
– Принесите мне букет, Розали – когда Вы будете идти ко мне.
Я тотчас верну Вам деньги. Купите мне голубые ирисы, потому что сегодня у меня дико болит правое легкое.
* * *
На студеном ветру ледяном,
Стынет желтая бритая щелка китайской красавицы.
– Наползай, наползай на мой синий член,
слегка червивое мясо…
Как была ты прекрасна у трех сосен,
Когда начинается ветер.
Я грущу. А ты уже умерла.
Груди-шары унесла.
Спокойно-спокойно через желтую землю. Наш катится ветер.
Нет тебя на моем хую. Пуст член. И только припадок пейзажа. Да кусок глаза.
– так написал, глядя на китайский рисунок.
* * *
Хорошо в мае, в замечательном влажном мае быть председателем Всероссийской Чрезвычайной комиссии в городе Одессе, стоять в кожаной куртке на балконе, выходящем в сторону моря, поправлять пенсне и вдыхать одуряющие запахи.
А потом вернуться в глубину комнаты, кашляя, закурить и приступить к допросу княгини Эн, глубоко замешанной в контрреволюционном заговоре и славящейся своей замечательной красотой двадцатидвухлетней княгини.
* * *
Когда-то садился на велосипед и плакал. Хмурое черное небо, апрельский полдень.
Грустно и тогда, когда в марте-апреле нет денег и идет снег. Как сейчас. И облупленные здания Бродвея в окне, и ты переселился – четвертый день живешь в грязном отеле один, уже второй год без любви. И двадцать пять центов на телефонные звонки. А еще грустнее, когда тонко-тонко потянет горячим железом от внезапно затопленного радиатора. И как расплачешься тогда…
Сухо щелкает утюг, идет длинный снег. О, какая отрава эти весенние дни! И не прижмешься щекой к телу своего автомата. А ведь легче бы стало.
* * *
Возьму я рыбину – положу ее на скалу, отерев предварительно скалу ладонью, – и стану есть рыбину, погрузив в нее руки. Копченая рыбина хороша. И бутыль вина белого со мною. И солнце голову мою печет добросовестно. И птички поют. И сердце чему-то радуется, хотя чему радоваться, а вот, видно, и этой малости ему достаточно – вино, рыбина, солнце, и птички поют. Хорошо еще, что я не виконт или маркиз. А то и вовсе было бы невыносимо хорошо.
* * *
Пойдем купаться. Вода теплая. Окунем наши тела в озеро. В озере нет тревоги, какая есть в море и океане. Полежим в хлипкой воде, хотя тяжелее будет нам плавать. Повернемся на спину – увидим медный закат и тяжелые облака. И вспомним прошлое и заплачем в воде. А по берегу пройдет человек с сумкой или, может быть, с мешком.
Пойдем – искупаемся по отдельности и в разные дни. Ведь мы с тобой давно уже не муж и жена. Просто была у нас общая юность.
* * *
Бедный мой. Милый мой. Сонный. Вспомни штурм Ботанического сада, когда пули сбивали ветки веерной пальмы, из жирного алоэ прямо на лица раненых брызгал сок, убитых ребят осеняли голубые пинии, и среди всеобщего жаркого ада то и дело появлялась сумасшедшая контесса Эва Гонзалес в белой шляпке и разорванном в клочья белом же платье. Вспомни, как мы ее гнали и как орала павлинья ферма, прошитая случайной автоматной очередью. И ветер пах гарью и цветами. И мы знали, что нас перебьют неизбежно и что новый 1933 год будет всходить без нас. И вновь отстроят здание пограничной охраны…
А ветер Ботанического сада, я говорю, пах цветами, тропическими цветами и гробницей. И иногда наши парни отклеивали усы, тщетно спасаясь бегством в глубоких деревьях или в костяном бамбуке.
И я помню некоего Карлоса Акуна с накрашенными синей помадой губами, истерически смеющегося над своей оторванной рукой. О, запахи Ботанического сада!
Наши раны гнили, как бананы.
Как бананы, гнили наши раны.
* * *
Морда у нашего Лимонова широкая. Фигура стройная – солдатская. А на старых фотографиях гляделся как Иисусик. Хлюпик, знаете ли. Интеллигент. Поэт. «Поэт со стеклянными крыльями», как один старый мудак о нем пренебрежительно отозвался.
Теперь над теми фотографиями Эдуардо раскатисто смеется.
* * *
Если в теплый сырой вечер внимательно подкраситься у зеркала, надвинуть на глаза лиловую шляпу, надеть высокие черные чулки, черный пояс-паутинку, кружевные трусики, нелепо развевающееся и висящее платье и пойти гулять, помахивая сумочкой, можно вызвать и в теле, и в душе женские ощущения. И еще если встретить грустного красношеего матроса с одинокого корабля. А у него невероятно синие глаза.
* * *
Лают борзые. Кричат кони. Храпят олени…
А у нее такой круглый порочный лоб, такая мутная сумочка, и джинсы, и рубашечка девочки-шатуньи. Есть такие на обеих берегах нашей Великой Империи – и здесь, и в Калифорнии. Там приляжет, здесь присядет девочка, там закусит, здесь покурит…
В отсутствие короля (когда он был на охоте) королева говорит, что скучала, но ей не верит никто. Придворные вежливо покашливают, король хохочет – все ведь знают, что королева ужасная шлюха. Все, конечно, за исключением забившегося в угол картины шута. Он же тайный влюбленный и автор романтических гимнов. Дворец и его обитатели, безусловно, знают об этой страсти, а королева ужасная шлюха, и у нее круглый лоб.
* * *
Сесть бы, еб твою мать, в хорошеньком прелестненьком ресторанчике, ножку на ножку закинуть и кликнуть слуг. А притом девочек красивеньких и голодненьких привезти. «Эй, вы, ебаные в рот, – сказать слугам литературно, – видите девочек? Накормить девочек икоркой русскою, водочки, виски да соков им принести. Я их потом танцевать повезу. И чтоб живо, и все лучшее и дорогое, и за качеством уж прошу проследить! У них желудки нежные. Ежели что, расстреляю каждого (сколько вас тут есть?..)… пятого».