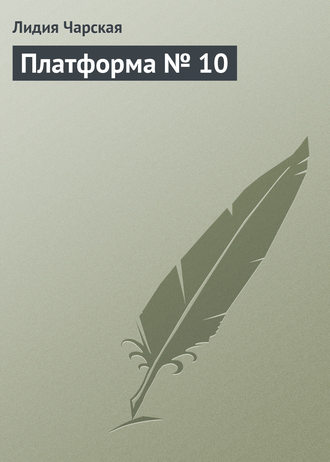
Лидия Чарская
Платформа № 10
IV
Когда на следующее утро Нина Груздева, маленькая, худенькая девушка, с веснушчатым некрасивым лицом и чудесными голубовато-серыми глазами, являвшимися большой и прекрасной неожиданностью на этом лице, вошла чтобы заварить чай в столовую, кабинет и спальню отца, – комнату, имеющую три названия в одно и то же время, – она громко ахнула и чуть не выронила из рук чайницы от радостного волнующего испуга. На рваном старом кожаном диване, под теплой шинелью с ильковым воротником, спал некто, незнакомый, молодой и прекрасный, по её мнению такой прекрасный, какие редко встречаются в жизни. Нина, чуть дыша, на цыпочках приблизилась к дивану. Перед ней было свежее открытое смуглое лицо. Черные брови, черные бархатные ресницы. Черные же усики, чуть намеченные над верхней губой. И алый, рот чувственный и нежный.
– Владимир Ленский, – прошептала Ниночка, прижимая худенькие руки к груди и вся замирая от восторга. – Владимир Ленский, – прошептала она еще раз с тихим благоговейным ужасом.
И вот сонные удивленно-расширенные глаза раскрылись. Черные, чуть выпуклые, блестящие нестерпимо.
– Откуда ты, прелестное дитя? – не без оттенка юмора продекламировал студент. Он принял маленькую девушку в первую минуту за ребенка. И вдруг, заметя длинное как у взрослой платье и вполне сформированную под дешевенькой тканью налившуюся грудь, и эти глаза, угрюмые и прекрасные, задумчивые и восторженные в одно и то же время, глаза с необъяснимо волнующим выражением устремленные на него, – смутился.
– Простите… ради… Бога… Я думал… я думал… – пролепетал он, натягивая на плечи сползшую шинель, – я не ожидал встретить здесь взрослую барышню.
– Да я и не барышня вовсе. Я – Нина. Дочка здешнего начальника полустанка, – поспешила ответить девушка, теребя тонкими пальцами одной руки рукав другой. – А вы, может, чаю хотите? Я вам налью. Со сливками. Или кофе? И свежую булку велю принести Агафье. Вчера у нас булки пекли. И сливки есть хорошие, деревенские. Вот испробуйте, так сами увидите. – И она улыбнулась смущенной, милой улыбкой, от которой просияло и странно похорошело её некрасивое незначительное веснушчатое лицо.
– Что то в ней есть такое… притягательное, несмотря на то, что в общем дурнушка. А глаза как звезды… – проносилось в голове Димитрия Васильевича Радина, пока он пил чай с густыми, похожими на сметану, сливками и с домашней рыхлого теста булкой. А она, обрадованная возможностью поделиться впечатлениями своей несложной монотонной жизни, говорила ему о нежных одуванчиках, о зеленом пруде и белых равнинах, о бывшей учительнице Анне Семеновне, обо всех убогих радостях её в здешней глуши.
Между тем, метель унялась к полудню. Выглянуло солнце, скупое, студеное, январское. Но с заносами еще не управились, и путь все еще расчищали, долго, старательно, усердно, на своем и соседнем участке. Пассажиры разбрелись по насыпи и, разминая затекшие ноги, гуляли вдоль шпал. Машинисты весело гуторили за кипящим чайником на паровозе.
Казалась празднично-светлой природа кругом. Белая как сахар равнина притягивала взоры.
– Хотите на лыжах побегать? У папаши лыжи есть и у меня тоже, – предложила Нина Радину, когда чай был допит и булки уничтожены дочиста.
– А поезд долго еще простоит? Не опоздаю я?
– Вот еще что выдумали. До сумерек не тронетесь. Папаша приходил, сказывал; – и не дожидаясь его согласия, побежала за дешевенькими приспособлениями для несложного спорта, которым сама увлекалась зимой.







