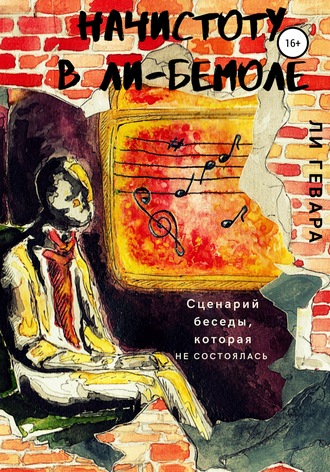
Ли Гевара
Начистоту в ли-бемоле
без особенного без пропуска, разособленно, без прикрас.
По последнему ли поступку ли нас засудят, осудят нас?
Не остудят ли в сумме сумрачных, сумасбродных своих идей?
Не хотите – не заходите, а хотите – закрыт Эдем,
вот, пожалуйста (просто жалко вас), оббежать – за углом тайник:
если спрятаться незапятнанно, может статься, вас ждёт двойник.
Ну и рожа – точь-в-точь похожа, точно выточена под вас!
Не желаете? Что ж, обжалуйте. Мы не жадные.
Кто подаст
мне по паспорту, по кадастру и причастности к доброте?
Если после нас что-то бьётся – на что мы рвёмся из темы к тем,
кто по ниточке тектонически совмещает привычный мир?
Если на спор ворота в райские стены врезаны как пунктир,
а на входе, выходит, холодом развернут – не в чести твой ник.
Благочествуешь, гонишь нечисть – а для чего, если ты – двойник?..
Я думаю, выше, я думаю, ниже,
я думаю, над, через, из-за и под
живёт тише мыши, движей обездвиже,
пра-протагонист – сам себе антипод.
Живёт древнегречневый человечек,
живёт сотню вечностей – делать-то нечего,
никем не замечен, нигде не засвечен,
излечен хронически от червоточин,
точнее, чреватостей; чёрен как вечер,
бел как молчание, нем, обесточен;
зачем-то, чудак, отучился на мечника:
выковал меч – голову-с-плеч –
четвёрка в зачётке, да некому всечь.
Глядь через прядь – леденеет гладь.
А за пядью пядь, а за гладью – хвать –
отражений свора оживает споро.
Далеко видать. Так тому бывать.
Выберу одно, разверну да вскрою.
Не стесняйся, брат: что тебе скрывать?
…Отражение мигнуло, отражение махнуло,
улыбаясь, колыхнулось – и пропало в темноте.
Почему-то стало страшно. Показалось? Окунула
руки в ледяную воду. Показалось.
Между тем
запись сделана, дело склеено, имя вписано – и привет.
Леденею я, индевею я, но отдельно: мерцает свет,
так идти б к нему, однотипному, я ведь правильно, я смогла!..
Свет – для зама тот. Место занято. Языкато глядит с угла
я не я – мой двойник.
Зря ходила в тайник.
Зря жила, пела зря:
тенью у фонаря
остаюсь, недосказана,
всё стою, недописана,
всё лежу, ныне, присно ли,
тенью, облаком, саженью…
…Безмятежная небрежность каждоутреннего дыма
продолжает цвет на сепию устало заменять.
Я живу ничейный голос,
я ору чужое имя.
Кто-то там меня незримо
проживает за меня.
ОН. Забавно. Почти ничего не понял, но забавно. Шипящих много и звукосочетаний всяких, язык сломать можно.
ОНА (хохоча и шутливо кидаясь на НЕГО с кулаками). Дурак! (остыв и присаживаясь – теперь на нижнюю полку) Между прочим, я никогда и не говорила, что у меня все стихотворения хорошие.
ОН. Поспорю, но допустим. Почему же тогда ты их все публикуешь, если достойны того, по-твоему, не все?
ОНА. Хм… Интересный вопрос. Наверное, они все для меня как дети. Впрочем, почему «как»? Хорошие ли, плохие, здоровенькие или нет – они мои дети, я не могу не выпускать их погулять. И всякий раз надеюсь, что их ждёт участь лучшая, чем моя.
ОН. И?..
ОНА. И каждый раз – вот так:
Давай, ну давай же! Я ж тебя родила,
текст мой,
я тебя выносила, вытошнила осколками,
я тебя так хотела пестовать и одевать
в детство,
да не в ношеное, арбенино или (чур!) ессоево,
не в лигеварово даже: любое – твоё. Носи
и беги играть с другими детьми – читателями.
Для тебя нараспашку страница – живи, не ссы,
там полюбят тебя! Обязательно.
Обязательно…
Но нет, я не мать, хоть дети мои на полке
жмурятся, если нечаянно взять и открыть их.
Я не мать, пусть делюсь каждым днём на дольки,
а сестрёнка – младшая – когда говорит «родители»,
меня подразумевает в том числе;
как неловка
и ценна мне этакая её близость.
Я не матерью, а, наверное, отчимом
и золовкой
предусмотрена в космических эпикризах.
Ведь куда ни глянь: за четвёрку – глаза в пол,
за мечту – за которой гнаться-то, подскажите?
Бог, как больной ублюдок, девочку в лес завёл
и ушёл, не оставив инструкций, как жить в нём.
Неуместна: ни рыба, ни дочь – половинка дочери.
Ровно на одного меньше тех, кто меня так звал.
Недостающих частиц, невживлённых почерков
чемодан, наверное, в Пулково опоздал.
Давай, ну давай не я – так хоть ты, текст мой,
будешь цельным, красивым, без выемок, без заплат!..
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ:
«Сегодня в Сети опять потерялся стишок. Неизвестный.
И ни один читатель не хочет с ним поиграть».
ОН. Грустно. Но, боюсь, ты права. Я думаю, что, даже если мы издадим вот эту нашу беседу книгой, её всё равно никто не прочтёт – просто потому, что это поэзия, а поэзию сегодня никто не любит. Наверное, она, как ты и говоришь, – и впрямь ребёнок: бесконечно красивый, но столь же несчастный. Может ли быть так, что поэзию губит именно красота? Как это случилось с Белоснежкой, чья мачеха отправила её из зависти в глухой лес?
ОНА. Тогда нам придётся стать гномами, которые её спасут. Ведь мы не можем перестать писать. Мы пишем, потому что только так способны жить.
Мы пишем, исчезая в темноте.
Мы пишем на коленке – не холсте.
Мы пишем, не стесняясь тем.
Мы пишем.
Шагая босоного по земле,
мы пишем, кажется, под толщей сотен лье,
и ни издатель, ни читатель не
отыщут
нас. Пока ещё сегодня,
пока нам телефонно и междугородне,
пока рифмованно ломать перегородки
по батареям
не надоест – мы будем сонными трамваями
творить внепланово смешные расставания.
Холодный город! Не сдержал, так отдавай меня –
не отогрею.
Так давай поставим друг друга на полку,
как можно ближе, чтобы казалось нам –
каждое слово нежнее шёлка
соприкасается.
И где бы ты ни был, в Москве или в Польше,
станет книжной каждая полка плацкарта,
где книги, обнявшись, приснят наше общее
дивное завтра,
в котором нас будут вовсю цитировать,
щёлкая пальцами, строку вспоминая,
где-нибудь на арбатских квартирниках,
а улицы назовут нашими именами –
им. Стародубцевой или им. Гевары?
Пока не решила, всё мимо… Мимо ли?..
Возьму биографию, зачеркну регалии
и заведу себе новых фамилий!
И вот когда нас опубликуют белыми
самолётами на небесном олове,
кто-то, стоящий за левым плечом
(ритм всегда начинается слева),
скажет: «Чёрт возьми, это было здорово!
А всё-таки ни о чём.
Возвращайтесь и пишите ещё».
За разговором наши герои не сразу заметили, как солнце спелой яичницей вылилось на голубую сковороду неба, а деревья и степи уступили место приземистым каменным постройкам. Поезд притормаживает у серого пустого полустанка. Вдоль вагона ковыляет кругленькая бабушка с вместительной сумкой; за ней резво скачет небольшая бодрая коза.
ОН. Смотри-ка… Кажется, и правда возвращаемся.
В ответ на его слова раздаётся тихое перешёптывание струн. ОН оборачивается и видит, что ОНА, вытащив из багажного отделения под полкой гитару, уже сидит с ней, закрыв глаза и что-то нашёптывая.
ОН. Что ты?..
ОНА. Тс-с. Я целую жизнь не вспоминала об этой песне. (поёт)
С возвращением, Ли.
Уж не знаю, надолго ли,
но, как вижу, здорова и
не совсем расслоилась в дали
инородной земли.
На́ снежок в руку белую,
забирай, не жалей его, –
с возвращением, Ли.
Мою сказку продли,
не понравится – переделаю,
без тебя меня долго не было,
больше так не боли.
От тебя ни Дали,
ни постель, ни зелёнка даже,
снегом место пустое мажу –
дезинфекция, понимаешь ли.
Слово «вечность» из камешков
в ожидании Ли.
Не гаси фонари –
многоточия в снежной вотчине.
Белым сумраком оторочены
ели, крыши домов, обочины, –
для тебя наряжались. Впрочем,
всё, что хочешь, бери.
Я стою на мели.
Я – нетвёрдая станция.
Блюз забытого танца
под холодными пальцами.
Te amo, mía gracia.
Не решившись признаться,
не воскликнув: «Останься!..»
С возвращением, Ли.
ОНА заканчивает петь и открывает глаза. ОН стоит, покачиваясь, не глядя на НЕЁ. Поезд, словно очнувшись от дрёмы, вздрагивает, потягивается затёкшей спиной и медленно ползёт по рельсам.
ОН. Теперь, когда финал так близок, я боюсь посмотреть на тебя. Боюсь спугнуть. Скажи что-нибудь, чтобы я знал, что ты действительно здесь. Что ты не исчезнешь.
ОНА. Больше не буду писать тебе.
Всё, что могла, я уже сказала.
Мне подавай перестук вокзала,
верхнюю полку да бал теней
над головой, да дымок от чая
(в тесном тамбуре не расплескать бы),
да за окном – золотую свадьбу
лета с осенью. И, отчалив,
в пыль полустанка втоптать стихи.
Пепел осядет смурным сугробом.
Если есть жизнь – она за порогом,
если и есть – то с твоей руки.
Время взаймы, поворот назад,
город целуется с ночью жадно.
Я подойду со спины, нежданная, –
«Здравствуй. Смотри: я пришла сама».
Я могу прочесть тебе ещё сотню стихотворений, но это вовсе не гарантирует того, что я не исчезну через секунду. Ты сам это прекрасно знаешь.
ОН. Неправда. Ты можешь остаться, пока я не проснусь.
ОНА. Или ты можешь остаться, пока не проснусь я?..
Издалека раздаётся голос. Он звучит словно сквозь вату, но всё ближе и ближе по мере приближения ПРОВОДНИЦЫ.
ПРОВОДНИЦА. Просыпаемся! Просыпаемся! Через 15 минут прибываем, просыпаемся!
ПРОВОДНИЦА заглядывает в пассажирский отсек героев и пристально смотрит на ребят.
ПРОВОДНИЦА (нахмурившись). Что-то я вас не припоминаю, молодые люди. Покажите-ка ваши билетики.
Внезапно её взгляд стекленеет. Она замирает на мгновение, а затем начинает медленно пятиться обратно в коридор.
ПРОВОДНИЦА (еле слышно, почти одними губами). Убирайся… убирайся… убирайся…
ОН (обращаясь к НЕЙ). Что она говорит?
Женщина, продолжая пятиться, всё с тем же невидящим взглядом уходит по коридору спиной вперёд (движения рваные, неестественные, словно в обратной перемотке), пока не скрывается в тамбуре. Её голос, наоборот, постепенно становится всё более слышимым, в конце переходя на крик.


