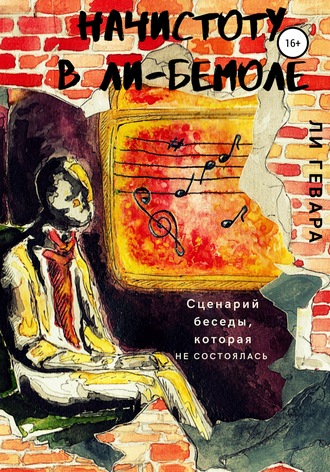
Ли Гевара
Начистоту в ли-бемоле
Доктор, бывали ли вы в Новый год один?
Я расскажу вам, как ночь безутешно длится,
как небо устало снег на неспящих сыпать,
как в зеркале незнакомец подмигивает по-лисьи,
а строчкой не выбить сердце, как клином – клин…
Мой доктор сказал мне: детка, тебе б влюбиться.
Наконец-то отбросить страх, обесточить принцип.
Вот слова тебе – высшей пробы, из нервных волокон сшиты.
Вот стакан – так дерзай! Опрокинешь его до дна?
Мир имеет округлую форму, подогнан в проём бойницы.
Доктор, присядьте. Мне тоже есть что сказать.
Когда докричат куранты, приветствуя факт соитья
двух похотливых вех, в единую ночь пролитых,
и на Дальнем Востоке уже соберутся спать –
незнакомец из зеркала канет во мрак больницы.
Доктор, где вы? Откликнитесь, говорите!
У меня тут шампанское, мне дозвонился Питер,
выдох – дым… И, покуда зима в зените,
доктор, вы про «влюбиться» в историю запишите –
я добросовестная пациентка. Взлечу, коль должна летать…
Мой доктор дома, с женой, пьёт виски и жарит шницель.
Ему этой ночью будет, кого обнять.
ОН. Жестоко. Что же было потом?
ОНА. Солнце вымигнуло, стесняясь, в прорезь облачных врат.
Кто сказал, что я воин? Кто сказал – я солдат?
И́з ночи в день я несу на шее солнышко-коловрат,
точно уже с ума
третий десяток лет
сама себе враг и щит.
Да хранит он меня в бою.
Больно знакомый профиль вымазал
пламенем небеса.
В объятья твои по млечному вылезу.
Не помогай – сама.
Как это вынести,
выскрести,
перевести
молчание в голоса?..
Вместо тебя – тьма.
Вместе с тобой – свет.
В нём шёпот мой разыщи –
и я для тебя спою.
Сбереги меня, одолень-трава. Сбереги.
Обними меня, одолень-трава, от борьбы,
отними меня, отдали от хромой беды,
сжавшей ржавый клюв на моём запястье.
Её зубы óстры, аки ножи, ну а я слабак.
Я не жну плодов, да и сею соль с лица и табак.
Соль-мажорное нá людях выжмется кое-как –
ли-минор в грудине гвоздём останется.
Всё пройдёт, всё пройдёт – заклинанье в огонь несу я
на ладони, бережно, как твоё имя – всуе.
Ты ещё увидишь, как я за тебя станцую,
если буду носить на шее твой коловрат.
Папочка, ты, конечно же, там рисуешь?
Откуда иначе взялся такой закат?..
ОН. Милая, он ведь не единственный. И ты не одна. Многие потеряли отцов, братьев, сыновей… Я понимаю и твою боль, и твою злость, прекрасно понимаю, но кто мог знать, что так выйдет?
ОНА (не выдержав, в ярости спрыгнув с полки вниз и встав прямо перед НИМ). Я знала! Я предупреждала! Я предсказала это, когда всё только начиналось, ты забыл?
Шутов хоронят за оградой
под металлический набат.
Сооружайте баррикады –
куда ж в войну без баррикад?
Рядите города в блокады,
сжигайте шины – пусть горят.
Идёт реакция распада.
Историк! Не пером – гранатой
создастся «Украиниада»,
альтернативный вариант.
Свой фетр бросая грациозно
(срывая с головы дуршлаг),
вкушай кровавый хмель на розлив,
о рыцарь деревянных шпаг.
Страна больна сальмонеллёзом
и дышит в маску, кое-как.
Покуда бьёмся лбами оземь,
танцуя регги на морозе,
по трону задницей елозит
запатентованный дурак.
Война сегодня – добрый повод
для тех, кто мелочен и слаб,
пустить по будням мощный залп
и вспомнить: «Я так зверски молод!
Во мне есть силы и азарт
бросаться камнем или словом
в подорванный кордон столовой,
дабы хлебнуть халявный чай
и сделать фото невзначай,
что разлетится по просторам
с комментами – вот жжОт фотограф! –
или на кухне, под "молдову",
твердить: я был там! Я солдат!»
На пепелище потасовок
солдаты нынче нарасхват…
А помнишь милое безделье,
слоняющееся в метро?
Как в искрах пятничных костров
сжигали смуту понеделья,
и пах предчувствием апреля
нам каждый камешек дорог?..
В пыли гитары менестрелей.
А менестрели, взяв шинели,
идут под музыку шрапнели –
идут на смерть, сбиваясь с ног…
Боец распродаёт награды.
Богач бросается с моста.
Ребята мрут за клоунаду –
достойная, видать, мечта.
Сооружайте баррикады!
Не канет в Лету красота –
преграда порастёт балладой
о мире, где под гимн и ладан
шутов хоронят за оградой,
построенной рукой шута.
ОН. Прости меня. Я не понимал тогда, о чём ты говорила. Но что бы я изменил? Что? Отправился бы на Майдан с криками «перестаньте, вы делаете только хуже»? Разве кто-нибудь услышал бы меня тогда? Разве кто-то поверил бы?..
ОН выкрикивает это, а затем бессильно роняет голову на руки.
ОНА. Были долгие-долгие, разные-разные были.
Были длинные, тощие, славные, пьяные, злые.
Брат сестру обнимал, приговаривал разное, выл ей,
что, мол, мимо, не мил он,
шёпоты в милях
падали прорастали побегами крыльями долгими долгими
дó дому.
Были острые, грязные, грозные, умные. Пали.
Были, не были – рваные фото, газеты в опале.
Отгорела столица, сестра обезбрачена. Мало
нам врагов – сами станем
враги без остатка
без прошлого вечного вещего верного пламени
умные нумеро
уно.
Были мёртвые. Были живые. Были – и вот весь сказ.
«Так вставай же з колін, мати-мачуха щира!» – і оплиски.
В серці б'ється вогонь, рот разодран – бросается в рот весна,
разрывает язык пополам,
разжигает войну по краям,
да по улицам по полям
на полях от заметок тесно,
на роду нам, ныне и присно:
если «вы» – то закончим «выстрел»,
если «мы» – то, конечно, «мысль».
Якщо «ми» – то, можливо, «мир»?
Не отплавиться, не отмыться
на границе гнилых квартир.
За границей такие же точно лица.
Это наши лица, себе не ври.
Брат протягивает ладонь: на, сестрица.
Мы не скажем. Бери. Бери.
Видишь – общие нам движения,
рідна кров, я тебе зову!
Будешь ли ты со мной, отражение,
если зеркало разобью?..
Были сонные, славные, равные, самые, главные, близкие, милые.
Были…
ОНА замолкает, судорожно сглатывая. По щекам текут слёзы, и ОНА вновь забирается на верхнюю полку, подобрав на сей раз ноги в красных кедах и забившись в угол. ОН не должен разглядеть её заплаканного лица. Сейчас не время для этого.
ОН. А ведь я был там. Уже потом, после… Попал в военный госпиталь. Если можно так назвать полуразрушенное здание без отопления и практически без оборудования.
ОНА. И что ты видел?
ОН. В палате на одного темно. Горит лишь фонарь в окне.
Врачу до обхода совсем немного выспаться без огней
аппаратов и глаз посетителей: доктор, что там с моим/моей?
Столько толп не видывал и Ледовый, и Кремль таких не имел.
Узкая койка опасливым скрипом выдаст присутствие.
То, что от глаз посторонних скрыто – лагідно, сумно так –
здесь темнота старанно відшукує: то не одне – два лиця.
«Ти же ніколи не випустиш руку?
Пообіцяй».
Нет ни границ, ні кордонів, и даже гвардии нет дела до
тех, кто припрятал секретное дважды глибоко у ладонь.
Что защищали во время битвы – три цвета або два?
Из-под обстрела спаслись обидва, и сразу – на абордаж.
Різними мовами з'єднані душі хлопчиків та дівчат.
Хочешь – оспорь; но лучше – послушай, послушай, как двое молчат.
Стихает атака. Смолкает вой. Затишок хоч на мить.
Врач заходит в палату на одного.
В ней пахнет двумя людьми.
ОНА. Надеюсь, они умерли. Это была бы лучшая концовка твоей истории.
ОН (в ужасе). Что ты такое говоришь?!
ОНА. Есть кое-что похуже, чем отдать жизнь.
В моём Шоушенке – сплошная стена и космос.
Врут, что время в тюрьме стои́т: оно мчит со скоростью
восьмидесяти осеней в час.
Двадцати девяти старостей.
Знаки ограничения не для тебя поставлены, что ли?
Смотри, я сама начертила один за шторой
на сплошной стене моих глаз.
Упиваясь своею самостью,
время, я трачу тебя вслепую,
даже когда ору тебе, а не рифмую –
как полюбить такую?
Спасение внутри? Врут.
Они врут, ну а я ору.
И вкус немоты во рту.
Потому что внутри моего Шоушенка – я.
Я за мир и войну, за мясо и шинкаря.
И никакого вам тут спасения.
И ни ночи без обещания:
я клянусь, я выберусь, выдерусь, ход прокопаю во мрак,
проползу все положенные беглецу пятьсот ярдов дерьма
и пойду гулять по-осеннему,
по-свободному, по-брусчатому…
Где гарантия, что всего пятьсот?
Что не тысяча мне высот?
Что спасёт?
Смогу ли выползти чистой?
Смогу ли выползти?
Смогу ли?..
Спасение внутри – блеф.
Сплошная стена – не рельеф.
Вкус немоты – срыв.
Некоторых птиц не запрёшь по ГОСТу:
перья яркие слишком, голоса не шепчут.
В моём Шоушенке 173 сантиметра роста.
И зовут меня, конечно же, не Шоушенком.
ОН. Ты словно и впрямь о тюрьме говоришь.
ОНА. Конечно, нет. Быть запертым в собственном искалеченном теле, не иметь возможности пройти по городу, потрогать пальцем ноги ласкового котёнка волны или сбегать в аптеку за лекарством маме, стать зависимым и бесполезным – это куда хуже, чем тюрьма.
Сестра, колите! Ведь дело – швах. Талант с корнями в декабрь вморожен. Я задолбалась крутить колёса. Когда же на ноги? Всё же, всё же нет мочи видеть кривые рожи больных и хилых, кричащих: «Боже! Почто мне это?!..» В кровати лёжа, курю московский "diablo rossa", творя кривую кольца из носа –
кольца, что Бильбо украл в горах.
Сестра, не спите! Солёный страх иглой танцует по бледной коже, берёт гитару, больной и босый, он старый аскер и он – прохожий, чуть отвернёшься – достанет ножик, рванётся в душу. Закончен прожиг, теперь всё сбудется. Мне негоже сдавать «сегодня» в хмельное «после», но парикмахер сжигает косы,
и сила слова – лишь на словах…
Сестра, дышите. Вам нужно жить, не то, что мне – пятьдесят на тридцать. Ещё немного, и выйду в ноль. Плохому сну тяжело досниться, плохим мечтам не дано свершиться, и в двадцать три я устала биться. Долги за боль возвращать сторицей и слышать «милая, я не твой» – уж лучше слушать часовий бой


