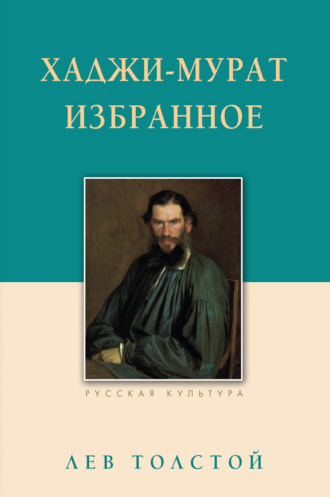
Лев Толстой
Хаджи-Мурат. Избранное
Глава VI
Солдаты несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко-редко где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышались топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.
В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.
– Господи, Мати Пресвятыя Богородицы! – говорила про себя, вздыхая, старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую. – Страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула, проклятая! Прямо над нашим домом в слободке.
– Нет, это дальше, к тетеньке Аринке в сад все попадают, – сказала девочка.
– И где-то, где-то барин мой таперича? – сказал Никита нараспев и еще пьяный немного. – Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю, – так люблю, что если, избави бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетенька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести, ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евтими сменить, что тут в карты играют? Это что – тьфу! одно слово! – заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшисецкого, который был нездоров флюсом.
– Звездочки-то, звездочки так и катятся, – глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты. – Вон, вон еще скатилась! К чему это так? а, маменька?
– Совсем разобьют домишко наш, – сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.
– А как мы нынче с дяинькой ходили туда, маынька, – продолжала певучим голосом разговорившаяся девочка, – так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.
– У кого были мужья да деньги, так повыехали, – говорила старуха, – а тут последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит, злодей! Господи, Господи!
– А как нам только выходить, как одна бомба прилети-ит, как лопни-ит, как засыпи-ит землею, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.
Глава VII
Все больше и больше раненых, на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.
– Как они подскочили, братцы мои, – говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами, – как подскочили, как крикнут: «Алла, Алла!»[41], так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут – ничего не сделаешь. Видимо-невидимо…
Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.
– Ты с бастиона?
– Так точно, ваше благородие.
– Ну, что там было? Расскажи.
– Да что было? Подступила их, ваше благородие, сила, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!
– Как одолели? Да ведь вы отбили же?
– Где тут отбить, когда его вся сила подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают.
Солдат ошибался, потому что траншея была за нами; но это – странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.
– Как же мне говорили, что отбили, – с досадой сказал Гальцин. – Может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?
– Сейчас, ваше благородие! – отвечал солдат. – Вряд ли, должно, за ним траншея осталась… совсем одолел.
– Ну, как вам не стыдно – отдали траншею. Это ужасно! – сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием.
– Что ж, когда сила! – проворчал солдат.
– И! ваши благородия, – заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними, – как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит… О-ох… легче, братцы… ровнее, братцы, ровней иди… о-о-о! – застонал раненый.
– А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, – сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. – Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!
Солдат остановился и левой рукой снял шапку.
– Куда ты идешь и зачем? – закричал он на него строго. – Него…
Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.
– Ранен, ваше благородие!
– Чем ранен?
– Сюда-то, должно, пулей, – сказал солдат, указывая на руку, – а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, – и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волоса на затылке.
– А ружье другое чье?
– Стуцер французской, ваше благородие… отнял. Да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно, – прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.
Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за свои несправедливые подозрения. Он почувствовал, что краснеет, отвернулся и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.
С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу: это было слишком ужасно!
Глава VIII
Большая, высокая темная зала, освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячечное дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры, со спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, осматривали, ощупывали и зондировали раны, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.
– Иван Богаев, рядовой 3-й роты С. полка, fractura femoris complicata[42], – кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. – Переверни-ка его.
– О-ой, отцы мои, вы наши отцы! – кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.
– Perforatio capitis[43].
– Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немного потерпите, полковник, а то этак нельзя: я брошу, – говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.
– Ай, не надо! Ой, ради бога, скорее, скорее, ради… а-а-а-а!
– Perforatio pecloris[44]… Севастьян Середа, рядовой… какого полка?.. Впрочем, не пишите: moritur[45]. Несите его, – сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже.
Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину…
Глава IX
По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который, марш-марш скакал с бастиона.
– Зобкин! Зобкин, постойте на минутку.
– Ну, что?
– Вы откуда?
– Из ложементов.
– Ну, как там? жарко?
– Ах, ужасно!
И ординарец поскакал дальше.
Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.
«Ах, скверно!» – подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная – мысль о смерти. Но Калугин был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя, вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону. «Vous êtes blessé?»[46] – сказал ему Наполеон. «Je vous demande pardon, sire, je suis tué»[47], – и адъютант упал с лошади и умер на месте.
Ему показалось это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую казацкую посадку, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.
– Что вы здесь делаете? – крикнул он на них.
– Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, – отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.
– То-то отдохнуть! Марш к своим местам.
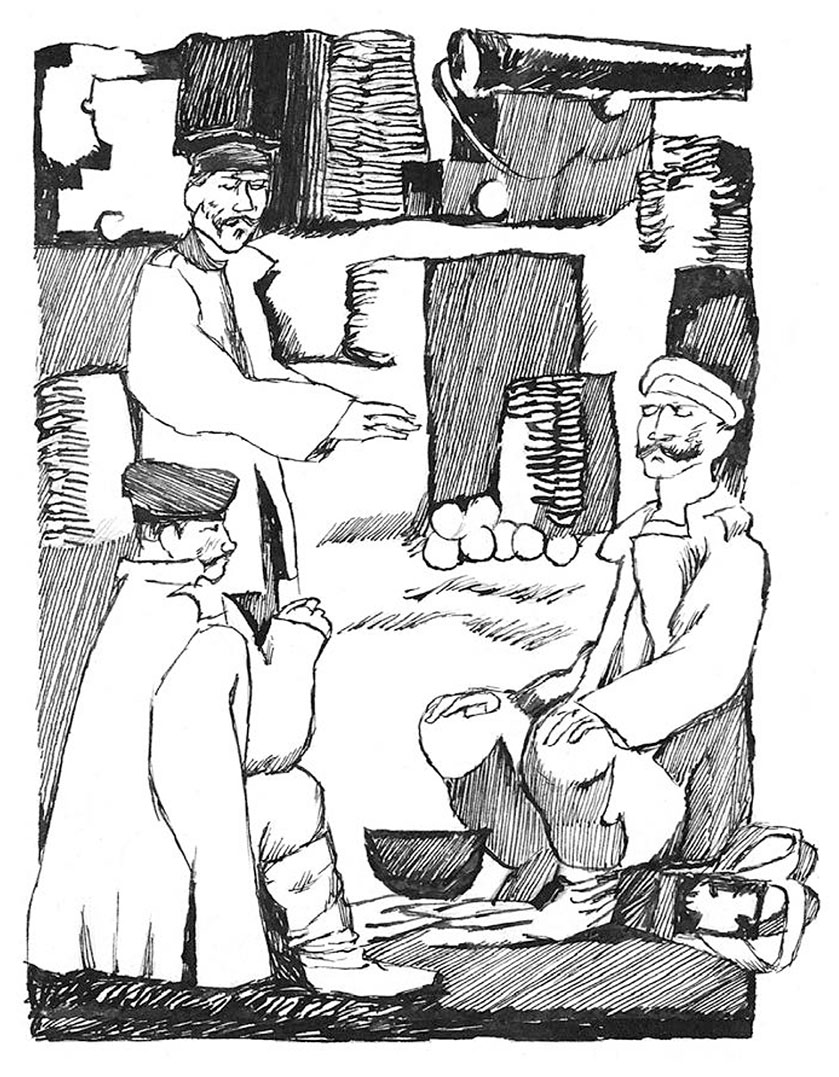
И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.
Уж раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству. Он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо! – подумал он, спотыкнувшись. – Непременно убьют», – и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства.
Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему: «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.
– Вишь, какой бравый! – сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее. – И ложиться не хочет.
Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.
– Что вы так запыхались? – сказал генерал, когда он ему передал приказания.
– Шел скоро очень, ваше превосходительство!
– Не хотите ли вина стакан?
Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидели генерал N., командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнате, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горела лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости. Он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.
– А вот я рад, что и вы здесь, капитан, – сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. – Мне генерал приказал узнать, – продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, – могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?
– Одно только орудие, – угрюмо отвечал капитан.
– Все-таки пойдемте посмотрим.
Капитан нахмурился и сердито крякнул.
– Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного, – сказал он. – Нельзя ли вам одним сходить? Там мой помощник, лейтенант Карц, вам все покажет.
Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей, и даже, когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между моряками имел репутацию храбреца. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина. «Вот репутация!» – подумал он.
– Ну, так я пойду один, если вы позволите, – сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.
Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие, желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это: сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.
Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который со своими ординарцами шел на вышку.
– Ротмистр Праскухин! – сказал генерал. – Сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М* полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве… Понимаете? Сами отведите к полку.
– Слушаю-с.
И Праскухин рысью побежал к ложементу.
Стрельба становилась реже.
Глава X
– Это второй батальон М* полка? – спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю. – Так точно-с. – Где командир?
Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.
– Генерал приказал… вам… извольте идти… поскорей… и главное – потише… назад… не назад, а к резерву, – говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.
Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказание, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.
Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя, после трех часов бомбардирования, из такого опасного места, как ложементы. Михайлов в эти три часа уже несколько раз, не без основания, считавший свой конец неизбежным, успел свыкнуться с убеждением, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.
– До свиданья, – сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали сыром, сидя в ямочке около бруствера, – счастливого пути.
– И вам желаю счастливо отстоять. Теперь, кажется, затихло.
Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе. Ночь была темна, хоть глаз выколи, только огни выстрелов и разрывы бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика: «Господи, Господи! что это такое!» Иногда слышался стон раненого и крики: «Носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «Пу-уш-ка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.
«Черт возьми! Как они тихо идут, – думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова. – Право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказание… Впрочем, нет: ведь могут рассказывать потом, что я трус! Что будет, то будет – пойду рядом».
«И зачем он идет за мной, – думал с своей стороны Михайлов. – Сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастие. Вот она летит, прямо сюда, кажется».
Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы. Пройдя еще немного с ним, Калугин повернул в траншею, ведущую к блиндажу.
– Ну, что новенького? – спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.
– Да ничего; кажется, что уж больше дела не будет.
– Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она… слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? – прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.
«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть, – подумал Калугин, – но уж я и так нынче много подвергал себя опасности».
– И в самом деле, я их лучше тут подожду, – сказал он.
Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами.
Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.
Глава XI
– У вас шинель в крови: неужели вы дрались в рукопашном? – спросил его Калугин.
– Ах, ужасно! Можете себе представить…
И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза и как, если бы не он, дело было бы проиграно.
Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы, но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.
Хвастал он невольно, потому что во время всего дела находился в каком-то тумане и забытьи до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то. Очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.
Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.
Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты. Его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.
– Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналий. Когда я крикну «ура!» – за мной и не отставать… Дружней, главное дело… покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя-батюшку!
– Как фамилия нашего ротного командира? – спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним. – Какой он храбрый!
– Да, как в дело, всегда… – отвечал юнкер. – Лисинковский его фамилия.
В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, высоко в воздухе зашуршали камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с элевационного станка, и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.
– Бомбами пускать! Дай только добраться, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! – заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.
Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая – приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли, куда и кто, что. Он шел, как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестел миллион огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он споткнулся и упал на что-то. Это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: «Коли его! что смотришь?» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «Ah! Dieu![48]» – закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он – герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.
– А я заколол одного! – сказал он батальонному командиру.
– Молодцом, барон…







