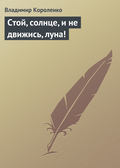Владимир Короленко
Береги честь смолоду. Лучшие произведения русских писателей о дружбе, верности и чести
Владимир Алексеевич Гиляровский
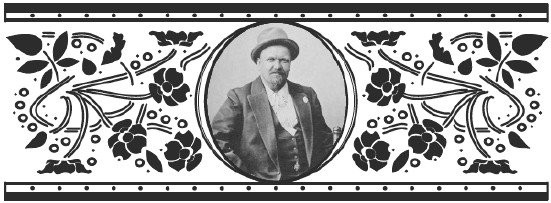
1853–1935
Пожалуй, лучшее по живости и яркости описание Владимира Гиляровского оставил брат известного писателя Антона Павловича Чехова Михаил.
«Приход Гиляровского пришёлся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда ещё молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на “ты”, предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушёл. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортёром по отделу происшествий в “Русских ведомостях”. Как репортёр он был исключителен».

Никто себя сам много не хвали и не уничижай.
Мои скитания
Отрывки
Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными и обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.
Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приёмам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн-Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.
Мы были неразлучны. Он показывал приёмы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал брёвнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна! Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, – а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей, тем более что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни.
Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда вологжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спасаться и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни линьков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из линьков – и всё как с гуся вода.
Так рассказывал Китаев:
– Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного имени Фофана все, и офицеры, и матросы, боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал, и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало: драл собственноручно, меньше семи зубов с маху не вышибал, да ещё райские сады на своём корабле устраивал.
Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было: половину в рекрутстве выбили да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щёлкать: челюсти у него давно закостенели и вполне заменяли зубы.
– А райские сады Фофан так устраивал: возьмёт да и развесит провинившихся матросов в верёвочных мешках по реям… Висим и болтаемся… Это первое наказание у него было. Я болтался-болтался как мышь на нитке… Ну, привык, ничего – заместо качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость.
И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сиживал.
– Фофан был рыжий, так, моего роста и такой же широкий, здоровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стёклышко, огнём горит – надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает.
– Васька Югов? – спрашивает.
– Есть! – отвечаю.
– Крузенштерн, – а я у Крузенштерна на последнем судне был, – не справился с тобой, так я справлюсь.
И мигнул боцману. Ну, сразу за здраю-желаю полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Встаю, обеими руками, согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне:
– Молодец, Югов.
– Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: есть! А штаны-то и упали. Ещё больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для ради дисциплины.
– На сальник! – командует мне Фофан.
А потом и давай меня по вантам, как кошку, гонять. Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился… С час гонял – а мне что! Похвалил меня Фофан и гаркнул:
– Будешь безобразничать – до кости шкуру спущу!
И спускал. Вот, то есть как, за всякие пустяки дерма-драл да в мешках на реи подвешивал. Прямо зверь был. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступиться.
Фофан меня лупил за всякую малость. Уже просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело. У берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. Я и вступись за него, говорю, стало-быть, Фофану, что лучше меня, мол, порите, а не его, он не вынесет… И взбеленился зверяга…
– Бунт? Под арест его. К расстрелу! – орёт, и пена от злобы у рта.
Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют-то завтра, а я пока высплюсь.
Вдруг меня кто-то будит:
– Дядя Василий, тебя завтра расстреляют, беги, – земля видна, доплывёшь.
Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели… Оказывается, всё-таки Фофан простил его по болезни… Поцеловал я его, вышел на палубу; ночь тёмная, волны гудят, свищут, море злое, да всё-таки лучше расстрела… Нырнул на счастье, да и очутился на необитаемом острове… Потом ушёл в Японию с ихними рыбаками, а через два года на «Палладу» попал, потом в Китай и в Россию вернулся.
* * *
Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звёздочкой в мёртвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию.
– Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?
– Там… мо… мо… Индийский океан…
– Не океан, а только озеро… Так забыл, Ордин?
– Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.
– На что книжка? Всё равно забудешь… Да и не трудно забыть – слова мудрёные, дикие… Озеро называется Манасаровар, а реки – Пенджаб, что значит пятиречье… Слова тебе эти трудны, а вот ты припомни: пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь?
– Галахов! Какую ты Новую Гвинею начертил на доске? Это, братец, окорок, а не Новая Гвинея… Помни, Новая Гвинея похожа на скверного, одноногого гуся… А ты окорок.
В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил:
– Книжки ещё не покупали?
– Не покупали.
– И не покупайте, это не история, в ней только и говорится, что такой-то царь побил такого-то, такой-то князь такого-то и больше ничего… Истории развития народа и страны там и нет.
И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать только имена и хронологические данные, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминалось.
– Что было в 1380 году?
Ответишь.
– А ровно через сто лет?
Всё хорошо запоминалось. И самое светлое воспоминание осталось о Соболеве. Учитель русского языка, франтик Билевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство.
– Они все женятся! – охарактеризовал его Онисим.
Действительно, это был «жених из ножевой линии» и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворения-шутки, которыми занимались в гимназии двое: я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны, мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам.
* * *
Это был июнь 1871 года. Холера уже началась. Когда я пришёл пешком из Вологды в Ярославль, там участились холерные случаи, которые главным образом проявлялись среди прибрежного рабочего народа, среди зимогоров-грузчиков. Холера помогла мне выполнить заветное желание попасть именно в бурлаки, да ещё в лямочники, в те самые, о которых Некрасов сказал: «То бурлаки идут бечевой…»
Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире… А где же бурлаки?
Я спрашивал об этом на пристанях – надо мной смеялись. Только один старик, лежавший на штабелях тёса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водят суда теперь, тащат только маленькие унжаки и коломенки, а старинных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было.
– Вот только одна вчера такая вечером пришла, настоящая расшива, и сейчас, так версты на две выше Твериц, стоит; тут у нас бурлацкая перемена спокон веку была, аравушка на базар сходит, сутки, а то и двое, отдохнёт. Вон гляди!..
И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направились к нам, их, должно быть, привлекли эти груды сложенного тёса.
– Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить?
– Да пейте, кто мешает!
– Вот спасибо, и тебе поднесём!
Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную вязку кренделей. Другой, коренастый мужик, вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печёнку с хороший каравай, а четвёртый, с чёрной бородой и огромными бровями, стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошёл к ним.
– А этот малый с тобой, что ли? – мигнул чёрный на меня.
– Так, работёнку подыскивает…
– Ведь вы с той расшивы?
– Оттоль! – И поманил меня к себе. – Седай!
Чёрный осмотрел меня с головы до ног и поднёс вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня.
– Вот, гляди, ребята, это всё моё состояние, пропьём, а потом уж вы меня в артель возьмите, надо и лямку попробовать… Прямо говорить буду, деваться некуда, работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался.
– А на кой ляд он нам?
– Ну что ж, ладно! Айда с нами, по заре выходим.
Мы пили, закусывали, разговаривали… Принесли ещё штоф и допили.
– Айда-те на базар, сейчас тебя обрядить надо… Коньки брось, на липовую машину станем!
Я ликовал. Зашли в кабак, захватили ещё штоф, два каравая ситнего, продали на базаре за два рубля мои сапоги, купили онучи, три пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня три раза разуться и обуться. И ах! как легко после тяжёлой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чём я и сообщил бурлакам.
– Нога-то как в трактире! Я вот сроду не носил сапогов, – утешил меня длинный малый.
Приняла меня оравушка без расспросов, будто пришёл свой человек. По бурлацкому статуту не подобает расспрашивать, кто ты да откуда.
Садись, да обедай, да в лямку впрягайся! А откуда ты, никому дела нет. Накормили меня ужином, кашицей с солёной судачиной, а потом я улёгся вместе с другими, на песке около прикола, на котором был намотан конец бичевы, а другой конец высоко над водой поднимался к вершине мачты. Я уснул, а кругом ещё разговаривали бурлаки, да шумела и ругалась одна пьяная кучка, распивавшая вино. Я заснул как убитый, сунув лицо в песок – уж очень комары и мошкара одолевали, особенно когда дым от костра несся в другую сторону.
Я проснулся от толчка в бок и голоса над головой:
– Вставай, ребятушки, встава-ай…
Песок отсырел… Дрожь проняла всё тело… Только что рассвело… Травка не колыхнётся, роса на листочке поблескивает… Ветерок пошевеливает белый – туман над рекой… Вдали расшива кажется совсем чёрной…
– Подходи к отвальной!
Около приказчика с железным ведром выстраивалась шеренга вставших с холодного песка бурлаков с заспанными лицами, кто расправлял наболелые кости, кто стучал от утреннего холода зубами.
Согреться стаканом сивухи – у всех было единой целью и надеждой. Выпивали… Отходили… Солили ломти хлеба и завтракали… Кое-кто запивал из Волги в нападку водой с песочком и тут же умывался, утираясь кто рукавом, кто полой кафтана. Потом одежду, а кто запасливей, так и рогожу, на которой спал, валили в лодку, и приказчик увозил бурлацкое имущество к посудине. Ветерок зарябил реку… Согнал туман… Засверкали первые лучи восходящего солнца, а вместе с ним и ветерок затих… Волга – как зеркало… Бурлаки столпились возле прикола, вокруг бичевы, приноравливались к лямке.
– Хомутайсь! – рявкнул косной с посудины…
Стали запрягаться, а косной ревел:
– Залогу!..
Якорные подъехали на лодке к буйку, выбрали канаты, затянули дубинушку, и, наконец, якорь показал из воды свои чёрные рога…
– Ходу, ребятушки, ходу! – надрывался косной.
– Ой, дубинушка, ухнем, ой, лесовая, подёрнем, подёрнем, да ух, ух, ух…
Расшива неслышно зашевелилась.
– Ой, пошла, пошла, пошла…
А расшива ещё только шевелилась и не двигалась… Аравушка топталась на месте, скрипнула мачта…
– Ой, пошла, пошла, пошла…
* * *
То мы хлюпали по болоту, то путались в кустах.
Ну и шахма! Вся тальником заросла. То в болото, то в воду лезь.
Ругался «шишка» Иван Костыга, старинный бурлак, из низовых.
– На то ты и «гусак», чтобы дорогу-путь держать, – сказал «подшишечный» Улан, тоже бывалый.
– Да нешто это наш бичевник!.. Пароходы съели бурлака… Только наш Пантюха всё ещё по старой вере.
– Народом кормился и отец мой, и я. Душу свою нечистому не отдам. Что такое пароходы? Кто их возит? Души утопленников колёса вертят, а нечистые их огнём палят…
Этот разговор я слышал ещё накануне, после ужина. Путина, в которую я попал, была случайная. Только один на всей Волге старый «хозяин» Пантелей из-за Утки-Майны водил суда народом, по старинке.
Короткие путины, конечно, ещё были: народом поднимали или унжаки с посудой, или паузки с камнем, и наша единственная уцелевшая на Волге Крымзенская расшива была анахронизмом. Она была старше Ивана Костыги, который от Утки-Майны до Рыбны больше двадцати путин сделал у Пантюхи и потому с презрением смотрел и на пароходы, и на всех нас, которых бурлаками не считал. Мне посчастливилось, он меня сразу поставил третьим, за подшишечным Уланом, сказав:
– Здоров малый, – этот сдоржить!
И Улан подтвердил: сдоржить!
И приходилось сдерживать, – инда икры болели, грудь ломило и глаза наливались кровью.
– Суводь[4], робя, держись. О-го-го-го… – загремело с расшивы, попавшей в водоворот.
И на повороте Волги, когда мы переваливали песчаную косу, сразу натянулась бичева, и нас рвануло назад.
– Над-дай, робя, у-ух! – грянул Костыга, когда мы на момент остановились и кое-кто упал:
– Над-дай! Не засарива-ай!.. – ревел косной с прясла.
Сдержали. Двинулись, качаясь и задыхаясь… В глазах потемнело, а встречное течение – суводь – ещё крутило посудину.
– Федька, пудиля! – хрипел Костыга.
И сзади меня чудный высокий тенор затянул звонко и приказательно:
– Белый пудель шаговит…
– Шаговит, шаговит… – отозвалась на разные голоса ватага, и я тоже с ней.
И установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели чёрного пуделя.
– Чёрный пудель шаговит, шаговит… Чёрный пудель шаговит, шаговит.
И пели, пока не побороли встречное течение. А тут ещё десяток мальчишек с песчаного обрывистого яра дразнили нас:
– Аравушка! аравушка! обсери берега!
Но старые бурлаки не обижались, и никакого внимания на них.
– Что верно, то верно, время холерное!
– Правдой не задразнишь, – кивнул на них Улан.
Обессиленно двигалась. Бичева захлюпала по воде. Расшива сошла со стержня…
– Не зас-сарива-ай!.. – И бичева натягивалась.
– Ещё ветру нет, а то искупало бы! – обернулся ко мне Улан.
– Почему Улан? – допытывался я после у него.
Оказывается, давно это было – остановили они шайкой тройку под Казанью на большой дороге, и по дележу ему достался кожаный ящик. Пришёл он в кабак на пристани, открыл, – а в ящике всего-навсего только и оказалась уланская каска.
– Ну и смеху было! Так с тех пор и прозвали Уланом.
Смеётся, рассказывает.
Когда был попутный ветер – ставили пару и шли легко и скоро, торопком, чтобы не засаривать в воду бичеву.
* * *
Давно миновали Толгу – монастырь на острове.
Солнце закатывалось, потемнела река, пояснел песок, а тальники зелёные в чёрную полосу слились.
– Засобачивай!
И гремела якорная цепь в ответ.
Булькнули якоря на расшиве… Мы распряглись, отхлестнули чебурки лямочные и отдыхали. А недалеко от берега два костра пылали и два котла кипятились. Кашевар часа за два раньше на завозне прибыл и ужин варил. Водолив приплыл с хлебом с расшивы.
– Мой руки, да за хлеб за соль!
Сели на песке кучками по восьмеро на чашку. Сперва хлебали с хлебом «юшку», то есть жидкий навар из пшена с «поденьем», льняным чёрным маслом, а потом густую пшённую «ройку» с ним же. А чтобы сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в чашки воды: ложка каши – ложка воды, а то ройка крута и суха, в глотке стоит. Доели. Туман забелел кругом. Все жались под дым, а то комар заел. Онучи и лапти сушили. Я в первый раз в жизни надел лапти и нашёл, что удобнее обуви и не придумаешь: легко и мягко.
Кое-кто из стариков уехал ночевать на расшиву.
Федя затянул было «Вниз по матушке», да не вышло. Никто не подтянул. И замер голос, прокатившись по реке и повторившись в лесном овраге…
А над нами, на горе, выли барские собаки в Подберёзном.
Рядом со мной старый бурлак, седой и почему-то безухий, тихо рассказывал сказку об атамане Рукше, который с бурлаками и казаками персидскую землю завоевал… Кто это завоевал?.. Кто этот Рукша? Уж не Стенька ли Разин? Рукша тоже персидскую царевну увёз.
Скоро все заснули.
Моя первая ночь на Волге. Устал, а не спалось. Измучился, а душа ликовала, и ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушёл в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который и сунул меня на Волгу своим романом «Что делать?».
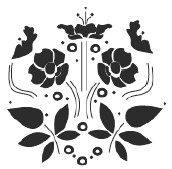
Москва и москвичи
Отрывки
Под Китайской стеной
Постройка Китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом в воспоминание своей родины – Китай-городка на Подолии.
В начале прошлого столетия, в 1806 году, о Китайгородской стене писал П.С. Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников; к стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни… Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург… Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки».
После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому, и вдобавок на Старой площади, между Ильинскими и Никольскими воротами, открылся Толкучий рынок, который в половине восьмидесятых годов был ещё в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В.Е. Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в восьмидесятых годах, но следы её остались, – она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с её трактирами-притонами и знаменитой «Шиповской крепостью».
В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н.И. Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шилову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному: он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться по сколько угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось…
Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно.
Обитатели «Шиповской крепости» делились на две категории: в одной – беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Всё это развесёлый пьяный народ, ищущий здесь убежища от полиции.
Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но, молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны.
Первая категория исчезает днём для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит.
Вторая категория днём спит, а ночью «работает» по Москве или её окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли «Иванами», а впоследствии – «деловыми ребятами».
И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи «иваны» заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооружённые, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налёт «Иванов» снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве.
«Иваны», являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочки Старой и Новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в тёмных подвалах и отыскать было нельзя.
Лавочки мрачны даже днём, – что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную, небогатую торговлю. В одной продавали дешёвые меха, в другой – старую, чинёную обувь, в третьей – шерсть и бумагу, в четвёртой – лоскут, в пятой – железный и медный лом… Но всё это только приличная обстановка для непосвящённых, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавчонках принималось всё, что туда ни привозилось и ни приносилось, – от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника…
Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля.
Днём лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек – от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами, от «Иванов» – ночную добычу, иногда ещё с необсохшей кровью. Получив деньги, «Иваны» шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в «Ад» на Трубу или «Поляков трактир». Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а «иваны» – к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках, «тырбанили с лам» – делили добычу и тут же сбывали её трактирщику или специальным скупщикам.
В дни существования «Шиповской крепости» главным разбойничьим притоном был близ Яузы «Поляков трактир», наполненный отдельными каморками, где производился делёж награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались…
В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей… Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах.
После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьёзные «иваны» не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут «фортунка» и «судьба» и, конечно, шулера.
Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество и весьма не человеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так:
– Нахлынули в тёмную ночь солдаты – тишина и мрак во всём доме. Входят в первую квартиру – темнота, зловоние и беспорядок, на полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое: хозяин да его сын-мальчишка.
В другой та же история, в третьей – на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы – и ни одного жильца. А у всех выходов – солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы – нашли только несколько человек, молчаливых, как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а «иваны» первое время поразбрелись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейко в «Сухом овраге».
Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и так же тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого.
Целые квартиры заняли портные особой специальности – «раки». Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. «Раками» их звали потому, что они вечно, «как раки на мели», сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки.
Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населён грабителями, а теперь заселился законно прописанными «коммерсантами», неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, «коммерсантами», сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое.
Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съёмщики квартир и приёмщики краденого.
В этом громадном трёхэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона-трактира, вся остальная площадь состояла из мелких, грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями.
Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки… В такой квартире в трёх-четырёх разгороженных комнатках жило человек тридцать, вместе с детьми…
Летом с пяти, а зимой с семи часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелёк, грязные и оборванные, бегут на толкучку, на промысел. Это съёмщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными чёрт знает из какого табака.
Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают, – квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или, за редким исключением, не больше двух раз в году убирают свои квартиры, населённые ворами, пьяницами и проститутками.
Эти съёмщицы тоже торгуют хламьём, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями…
Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть: и пиджак, и брюки, и фуражку, и бельё.
Всё это рваное, линючее, ползёт чуть не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, чёрное пальто окажется серо-буро-малиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая – жёлтой, а полспины – зелёной. Бельё расползается при первой стирке. Это всё «произведения» первой категории шиповских ремесленников, «выдержавших экзамен» в ремесленной управе.