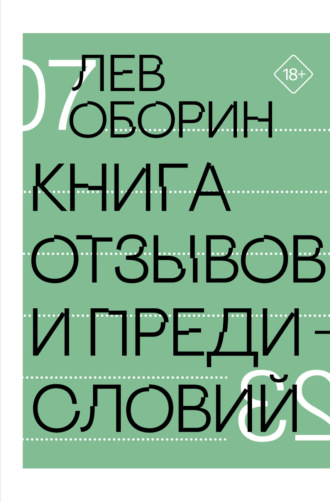
Лев Оборин
Книга отзывов и предисловий
Андрей Родионов. Звериный стиль. М.: Новое литературное обозрение, 2013
Воздух
Предыдущая книга Андрея Родионова «Новая драматургия» вызывала опасения: чувствовалось, что Родионов уже выработал большой, но не безграничный ресурс той поэтики, которая составила ему известность; на фоне «Портрета с натуры» и «Людей безнадежно устаревших профессий» та книга явно проседала. К счастью, Родионов сумел это преодолеть. Слова аннотации: «Перед вами тексты, которых вы не ожидали увидеть» – сначала кажутся рекламным заклинанием, но затем убеждаешься в их справедливости. Родионов, ранее рассказывавший мрачные истории, разворачивающиеся в мрачных пейзажах, теперь все чаще реагирует на актуальные события (давая фору Емелину): здесь есть стихи о Pussy Riot, Болотной площади и запрете «пропаганды гомосексуализма»; кроме того, Родионов снова изобретателен в эвфонии, использует нехарактерные для него ранее метрические решения, усиливает роль пародии («Девочки в масках пели в церковном хоре…», «ты жив еще курилка журналист / о, одиночество, и твой характер трудный, / а ты, как человек угнавший лифт / вдруг понимаешь что движенье нудно»). Абстрактная «лирика окраин» заменяется вполне конкретной любовной – вернее сказать, появление «фигуры обращения» преображает прежнюю лирику.
О старой манере Родионова заставляют вспомнить стихи к спектаклю «Сквоты», а отдельный интерес представляет стихотворная пьеса «Нурофеновая эскадрилья», отчетливо напоминающая о «Витамине роста» Григорьева и вместе с тем о социальном пафосе «Мистерии-буфф» Маяковского. Чувствуется, что такой развернутой формы Родионову не хватало. Мне кажется, это лучшая книга Родионова.
а в темном дворе, как в колокол
медленно долго гудит
черненький памятник Гоголю
тихо Москве говорит:
«ночью от топота конского
вглядываясь во тьму,
на небоскребы Полонского
взгляд я не подниму
не разгляжу на их спицах я
ни розового огня
ни вертолета полиции
вы не достойны меня
Аня Цветкова. Кофе Сигареты Яблоки Любовь / Предисл. М. Ионовой. М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2013
Воздух
Обращенные в прошлое, в мир воспоминаний, эти стихи также оценивают то, что изменилось к настоящему, – и проделывают работу по восстановлению желанного состояния. Ключевой «над-образ» здесь – образ сада, достаточного и самодостаточного микрокосма; сад Ани Цветковой оказывается Эдемом, куда необходимо вернуться, кофе-сигареты-яблоки – присущими ему вкусами, любовь – залогом его существования (хотя у яблок и яблонь, которые в богатом плантариуме Цветковой занимают особое место, роль отнюдь не только декоративно-вкусовая: «всего лишь человек земным надкушен / как яблони созревший плод / и – навсегда обезоружен / тем что в конце концов произойдет» – или: в «небе темно от яблок», а «темно» в мире этих стихов означает как минимум «тревожно»).
Отстраивание этого мира ведется с помощью блоков, мыслеединиц в строфической оболочке. И поскольку это восстановление разрушенного, неточные рифмы и усеченные строки совершенно не смущают; несмотря на прорехи, эти стихи сохраняют герметичность – держится ли она на честном слове или на вере. Образы в стихах Цветковой порой враждебны самому их существованию: так, в конце книги сад обступает тьма и говорящая закрывается в доме, где заодно с ней только свет лампы. Уязвимые и очень смелые стихи, настоящий опыт противостояния.
даже если ловушка обман шаткий мостик плацебо
где окно нараспашку и ты никогда не придешь
сохрани весь сегодняшний день и несносное небо
чтобы ангелы словно на крошки слетались на дождь
боже мой – я смотрю на прощанье в прощанье не веря
обернуться на голос упасть в желтый ворох листвы
и увидеть как тянутся к свету деревья
из своей переполненной смертью земли.
Иван Соколов. Мои мертвые. СПб.: Свое издательство, 2013
Воздух
Вторая книга молодого петербургского поэта, одного из самых интересных в этом поколении. Здесь собраны далеко не все тексты, написанные Иваном Соколовым за последнее время; так, из отличной поэмы «Anne Hathaway / Энн Хэтэуэй» в книгу попала только последняя часть – разрезное и комбинируемое в произвольном порядке «Покрывало Пенелопы», которое читатель найдет в приклеенном кармашке. Собственно, этот текст, один из лучших у Соколова, хорошо представляет достоинства его поэзии: осознанную вариативность, насыщенный культурный бэкграунд, готовность к языковым экспериментам – как синтаксическим, так и задействующим другие языки (в этом случае – английский). Хочется также отметить большой «Поэгл на основе центона из О. М.»: несмотря на то, что «поэгл на основе центона» – это, по идее, жанр дважды компилятивно-комбинаторный, любви к Мандельштаму не скроешь даже за умело подобранными цитатами (не только, кстати, из Мандельштама). Книгу Соколова вообще можно рассматривать как еще один вариант приноровления модернистских «высоких» лирических интенций к (пост)концептуалистским формам; приведем в качестве примера «Дневник Утана, собаки-поводыря», где имитация дневникового потока сознания становится формой сентиментальности.
и вот когда || твои пальцы пройдут
как песок сквозь мои
а в твой яблочный голос проникнет
грубый ядерный привкус
ни один
зодиак не ответит сколько мы стоим
роза ветров неграненый кристалл цветок зверобоя
Юрий Соломко. Школа радости: Первая книга стихов. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2013
Воздух
Стихотворения Юрия Соломко распадаются на две группы: предельно прозаизированные, повествовательные верлибры – и верлибры более «лирические», отвлеченные от быта или преломляющие, переосмысляющие его («Непорочное зачатие»). Кроме того, есть прозаические миниатюры, в одном случае проза скомбинирована со стихотворением в единый текст. Юрию Соломко хорошо подходит название серии, в которой напечатан сборник; перед нами фрагменты то ли дневников, то ли исповеди, а описания людей, предметов и явлений мнимо беспристрастны. На самом деле уже их выбор говорит об определенной позиции: интерес к бедности, маргиналам, обыденности; хороший пример – стихотворение «Общага»:
Стук в дверь. Входит сосед по этажу и идет к холодильнику.
Берет в холодильнике майонез. И уже потом спрашивает: можно?
На столе с вечера стоят грязные чашки. Над чашками летает мошкара.
Олег не выдерживает и выносит их на кухню. (Весь стол в следах от чашек.)
Коля жалуется на отсутствие гондона. Макс предлагает – взять у него в тумбочке. Коля,
не без гордости, говорит, что гондоны Макса ему жмут. Встает с постели и берет упаковку.
Подобные описания (далее в общажной комнате происходит еще много типичного) напоминают физиологические очерки: подробности в них сконцентрированы, может быть, даже излишне. Разговор от первого лица у Соломко несколько другой; такие стихотворения, как «Молоко» или «Как я стал атеистом», напоминают о тех американских повествовательных верлибрах, что некоторые называют мейнстримом (пример – впрочем, достаточно значительный – Тони Хогленд); признаться, в таких текстах сквозит необязательность.
Елена Сунцова. Манхэттенские романсы. N. Y.: StoSvet Press, 2013
Воздух
Легкость, свойственная письму Елены Сунцовой4, никуда не пропала и в этой книге, но – в соответствии, может быть, с названием – здесь гораздо больше драматизма, чем, например, в «Лете, полном дирижаблей». Начиная с книги «После лета» в поэзию Сунцовой входит, я бы сказал, знание холода. В «Манхэттенских романсах» это знание расширяется, и становится ясно, что легкость письма – лишь завеса, скрывающая подлинное эмоциональное напряжение:
Большая картина висит на стене.
Ей холодно в раме, как холодно мне,
Большие снежинки кружатся,
И страшно, и хочется сжаться
В утробный и маленький теплый комок
У теплого сердца, и серый платок
Накинуть на зябкие плечи,
Поверить, что холод конечен…
В этих стихах действительно много романсовых образов – платок, луна, розы, «поникшие плечи седых фонарей», «непрорезиненный плащ» (ср. северянинское «жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом»), но, разумеется, восприятие текста осложняется поправкой и на сознательность приема, и на осознанное приглушение интонации. Ключом к книге можно считать открывающий ее большой, трехчастный текст «Эпиграф», для Сунцовой совсем не характерный (первая часть основана на нисходящем дольнике, две последующие написаны свободным стихом). Достигнутая здесь интонация задает последующую отстраненную позицию автора по отношению к самому себе, это как бы трамплин, с которого можно прыгнуть в стихию романса, не боясь никаких связанных с этим жанром стилистических издержек, оставаясь под защитой интонации.
Эти стихи задают загадку: один ли и тот же человек чувствует и говорит, то есть одновременны ли переживание и письмо? И какое усилие нужно, чтобы не нарушать эту загадочность? Сунцову можно назвать одним из новых стоиков – и в свете этого определения, кстати, рассматривать и программу ее издательства Ailuros Publishing.
Еще в помине и лета нет,
И дом высоко живет,
И тех перекрестков весенний свет
С лица моего не стерт,
И снегу еще далеко до нас,
До бывшего снегом дня,
Которого мы не увидим, раз
Тебе повстречать меня.
Амарсана Улзытуев. Анафоры. М.: ОГИ, 2013
Воздух
Новая книга бурятского поэта, пишущего по-русски; его первые журнальные публикации были с интересом встречены критикой. Книга Улзытуева названа и организована по формальному признаку: большинство стихов здесь действительно написаны с применением анафор; долгие – «долго дышащие» – строки можно сопоставить с шаманскими песнопениями.
Вообще редко приходится видеть книгу, настолько сконструированную, настолько подчиненную общей задаче – и при этом явно долго собиравшуюся. Своей сверхзадачи Улзытуев не скрывает. После слов о том, что русская поэтика «в результате переноса европейского стиха [то есть рифмованной силлабо-тоники] на русскую почву после двух веков русской поэзии выплеснула с водой и младенца», он говорит о выбранной им и возведенной в систему форме, что, возможно, когда-нибудь она «придет на смену конечной рифме», и далее: «Да, азиаты мы, да, скифы мы, и не только потому, что это сказал великий, а потому, что тысячелетиями существования мы обязаны гортанным песням наших в том числе и протомонгольских предков, певших зачины своих сказов и улигеров анафорой и передней рифмой. И, как обычно, на полмира». После такого предисловия ожидаешь эпической и доэпической, гимновой архаики, и в первых стихах книги ее действительно можно увидеть:
Погонщик простой вселенноподобного слова,
Понял я смысл исполинский слона,
Пусть тебя искупает, Россия, могучее древнее слово
в солнцеволосой воде,
Путь ведь обратно неблизкий.
Далее темы могут «мельчать»: от синкретических гимнов в последнем разделе Улзытуев переходит к «я»-лирике, сосредоточивается на собственной частной жизни – не теряющей, конечно, связи с миром: «Еще один день жизни дали бомбисты, / Еще одну целую вечность могу дышать и любить, / Изумруды вселенных готовить, / Виноградные солнца пить» – из стихотворения, поводом к написанию которого стали взрывы в московском метро. Впечатление от книги несколько портит не пафос, вполне убедительный в своей аутентичности, и не его окказиональная «отмена», а как раз сами анафоры и передние рифмы: иногда они хороши («с ними – снимет», «коли – кости», «и текучие – Итигэлова», «в одно – во дни»), а иногда совпадение лишь первого слога или даже фонемы еще не дает основания говорить о полноценном созвучии («о – облака», «женился – жил»); то же можно сказать и об однокоренных рифмах («и, конечно – бесконечно»).
И всходил древний хунн, сын косматого синего неба,
Иволгинскою степью на былинную гору свою,
Сквозь забрало прищуренных век богатырским окидывал взором,
Сколько лун до Срединной – совершить свой набег.
С одобреньем смотрел, как до самого края долины
Одарила обильно скотом забайкальских народов земля,
Вся в горах и озерах, вся в лесах и сибирских морозах,
Вся красавица-пленница, добытая в честном бою.
Дмитрий Данилов. И мы разъезжаемся по домам / Предисл. Д. Давыдова. N. Y.: Ailuros Publishing, 2014
Воздух
К текстам Дмитрия Данилова можно применить определение «сериальные». Прием бытового сверхподробного описания – или проговаривания всех возможных вариантов, – который Данилов использует в своей прозе, и в самом деле просится в стихи. Взять, например, такие тексты, как «Украина – не Россия», «Житель Камчатки забил собутыльника табуретом», «Томим» и «Поэт». Разумеется, в памяти сразу всплывают опыты таких авторов, как Лев Рубинштейн и Валерий Нугатов, но в большинстве своих текстов Данилов ставит задачи, этим поэтам не свойственные: гораздо характернее для него такие стихотворения, как «Днепропетровск» или «Нилова пустынь», в которых зафиксированная внутренняя речь-констатация способствует познанию и приятию мест и наполняющей их жизни (Данилов – поэт и прозаик очень топический). Совершение этой работы осознается как обретение гармонии, после которого остается только произнести финальные, практически формульные слова: Это всего-навсего получение некоторого опыта. Получение некоторого опыта – до такой степени самоцель, что после него говорить ничего не нужно, после него остается только: И мы разъезжаемся по домам. Этой фразой называется и закрывается книга – и, по сути, перед нами аналог фразы «Горизонтальное положение, сон». Автонимная телеология в одном потоке с подробностями, топонимами, мелкими событиями несет в себе и значительное чувство – не путать с эмоциями, которые могут быть при этом разными. Чувству же этому не нужно более конкретного определения, чем (по песне Озерского и Федорова) «что-нибудь такое» – поди пойми, что это, но человеку этого достаточно.
Можно уже и уезжать
Поехали, да
Еще триста пятьдесят
Страшное, мглистое, тоскливое место
Унылое, убогое
Серое, черное все такое
Нет более унылого места
В русской земле
Наверное
Какое счастье, Господи
Какое счастье
Что удалось добраться
До этого убогого места
До этого страшного
До этого, прямо скажем
Чудовищного места
Григорий Дашевский. Несколько стихотворений и переводов. М.: Каспар Хаузер, 2014
Воздух
Совсем маленькая книга последних стихов Дашевского, которую поэт успел собрать и которая стала посмертной. Шесть стихотворений и шесть переводов – это даже не книга-представление; это издание, необходимое эмоционально, как знак того, что Дашевский оставил большое наследие. Вошедшие сюда стихотворения написаны в 2000‐е. Они отмечены все большей аскетичностью формы: Дашевский вообще не произносит ни одного лишнего слова, создавая короткие притчи:
Чужого малютку баюкал
возьми говорю мое око
возьми поиграй говорю
Уснул наигравшись малютка
и сон стерегу я глубокий
и нечем увидеть зарю.
Связь древнего с новым – и актуализация нового в пространстве разговора о древнем – выстраивается тонкими лексическими средствами: Огнь живой поядающий, иже / вызываеши зуд сухость жжение… (вполне уместными в этом лексическом ряду оказываются типичные симптомы из рекламы). Стихотворение это оканчивается так: преклони свое пламя поближе / прошепчи что я милый твой птенчик. Эта сентиментальность, входящая в стихотворение не лейтмотивом, но одним из равноправных компонентов, – также античная: как воробышек Катулла, как душа (душенька, animula) из стихотворения Адриана. Дашевский доказывает, что чувствительность разговора с небытием по-человечески достойна.
То, что последний период творчества Дашевского был направлен на исследование возможности такого разговора, явствует и из выбора текстов для перевода. В случае Дашевского, извлекающего фрагменты из текстов Суинберна или Элиота, это жест вполне авторский: фрагменты становятся самостоятельными сообщениями. Процитировать в конце хочется последнее стихотворение Дашевского, стихотворение батюшковских силы и трагизма, в сборник не попавшее:
Благодарю вас ширококрылые орлы.
Мчась в глубочайшие небесные углы,
ломаете вы перья клювы крылья,
вы гибнете за эскадрильей эскадрилья,
выламывая из несокрушимых небесных сот
льда хоть крупицу человеку в рот —
и он еще одно мгновение живет.
Борис Херсонский. Missa in tempore belli / Месса во время войны. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014
Воздух
Книга стихов, написанных по следам последних трагических событий в Украине – от Евромайдана до войны. Важна здесь не только скорость реакции (Херсонский – «многопишущий» автор, и история – постоянная тема его стихов), но и то, что этот сборник показывает, как сложность оценки событий может не страдать от безусловного обозначения позиции автора; как in tempore belli и равно in tempore missae возможны разнообразные регистры чувств и потоки мыслей.
Херсонский – русскоязычный поэт, живущий в Украине и считающий ее своей родиной; во многом эта книга – о вынужденном выборе идентичности и о негодовании перед лицом стремительного возвращения прошлого – в виде исторических параллелей, оживленной риторики, фобий. Для Херсонского отторжение от Украины Крыма – акт безусловно советский («Идет горбун со звездой во лбу, / вязанку лжи несет на горбу или дружно выполняется пятилетний план»; наконец, насыщенное советизмами стихотворение «Плывет фрегат. На мачте Андреевский флаг…»), и в текстах книги оживает целый комплекс советских образов; как на нынешних западных карикатурах Советский Союз встает из могилы, так и у Херсонского советское наделено качествами зомби. Вместе с тем упоминаний конкретных событий и конкретных имен здесь не так уж много; Херсонский обобщает, благодаря чему его послание становится применимым не только ко многим конфликтам на постсоветском пространстве, но и к любой войне в принципе. Такой уход от конкретики – способ избежать «газетности»; привязанность к украинским событиям достигается благодаря рамочной структуре книги и, разумеется, времени ее появления; невозможно забыть о том, какие именно события стали причиной появления этих стихов.
Нельзя назвать метод Херсонского иносказательным: войны действительно во многом одинаковы. Впрочем, есть здесь и очень «конкретные» тексты: например, «Лекции об историческом материализме». Как часто бывает у Херсонского, концовки стихов оказываются практически «холостыми»: сильная мораль невозможна, ситуация по-прежнему неизбывна, и после сильной риторики следует не послание мира или ненависти, а остановка кадра, голая и горькая фиксация:
Что делает солнце за серой сплошной пеленой?
Что делают воры с этой несчастной страной?
О чем на Соборной площади напряженно гудит толпа?
С неба под ноги сыпется ледяная крупа.
Шестичастная «Месса» опирается на стихотворения, названные как части богослужения, но молитва о мире здесь не означает желания примирения/смирения. Эта книга сейчас читается как незавершенное свидетельство, и прогнозирование возможно, опять же, лишь самое обобщенное.
Странно, люди остались почти такими же, но
лицо эпохи страданием искажено,
как будто бы воздух, море и небо изменены
и горы не те, что были когда-то сотворены.
Ольга Седакова. Стелы и надписи / Послесл. С. Степанцова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014
Воздух
Книга Ольги Седаковой – новый «тройственный союз» (после сборника переводов из Филиппа Жакоте, иллюстрированного фотографиями Татьяны Ян), на сей раз между поэтом, художником и комментатором. Это отдельное издание небольшого цикла, созданного в 1982 году. Каждое стихотворение здесь описывает тип античного надгробного камня и воспроизводит надпись – скорее не на нем, а «вокруг него»; переводит на истертый белый памятник те мысли, которые неизбежно возникают при взгляде на древнее и незнатное надгробие; это в своем роде тоже союз, единение «прохожего», которому предписывается остановиться, с жизнью из прошлого.
В своем комментарии филолог-классик Сергей Степанцов пытается возводить стелы, описанные в стихах, к конкретным памятникам, но все же приходит к выводу, что здесь оживает скорее типология, чем конкретика; в самом деле, портреты людей выглядят предельно обобщенно, будто отражая не только неопределенную Античность, но и любое время, в том числе то, к которому принадлежит читающий (недаром Степанцова так занимают семантические метаморфозы местоимения «мы»); такое отношение ко времени проистекает из личного, повелительного обращения надгробных надписей к прохожему. У Седаковой повелительность стирается, дистанция же сохраняется. «Стелы и надписи» сами оказываются памятником, будучи неразрывно и диалектически связаны с той эскапистской эпохой, в которую они были написаны; сознательный уход от примет времени есть сам по себе примета – впрочем, это дополнительное обстоятельство никак не влияет на целостность замысла и восприятия цикла. Книгу дополняют лаконичные иллюстрации Василия Шлычкова, выполненные в технике оттиска глиняных форм (что само по себе отсылает к Древности).
Отвернувшись,
в широком большом покрывале
стоит она. Кажется, тополь
рядом с ней.
Это кажется. Тополя нет.
Да она бы сама охотно в него превратилась
по примеру преданья —
лишь бы не слушать:
– Что ты там видишь?
– Что я вижу, безумные люди?
Я вижу открытое море. Легко догадаться.
Море – и все. Или этого мало,
чтобы мне вечно скорбеть, а вам – досаждать любопытством?






