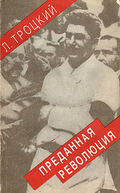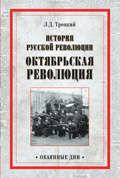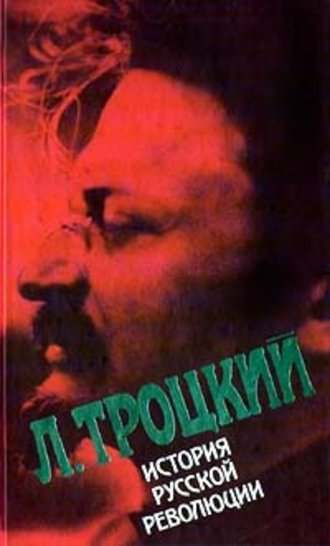
Лев Троцкий
История русской революции. Том II, часть 2
Утром доставили в Смольный задержанную на Николаевском вокзале саперами партию юнкеров, которые на грузовиках выехали из Зимнего дворца за продовольствием. Подвойский рассказывает: «Троцкий объявил им, что они отпускаются, с тем что дадут обещание не выступать более против советской власти, и могут идти в свое училище к своим занятиям. Мальчуганы, ожидавшие над собой кровавой расправы, были этим несказанно удивлены». В какой мере немедленное освобождение было правильно, остается под сомнением. Победа еще не была доведена до конца, юнкера представляли главную силу противника. С другой стороны, при колеблющихся настроениях в военных школах важно было показать на деле, что сдача на милость победителя не грозит юнкерам никакими карами. Доводы в ту и другую сторону как бы уравновешивали друг друга.
Из незанятого еще восставшими военного министерства генерал Левицкий сообщал утром по прямому проводу в ставку генералу Духонину: «Части петроградского гарнизона… перешли на сторону большевиков. Из Кронштадта прибыли матросы и легкий крейсер. Разведенные мосты вновь наведены ими. Весь город покрыт постами гарнизона, но выступлений никаких нет (!). Телефонная станция в руках гарнизона. Части, находящиеся в Зимнем дворце, только формально охраняют его, так как активно решили не выступать. В общем, впечатление, как будто бы Временное правительство находится в столице враждебного государства, закончившего мобилизацию, но не начавшего активных действий». Неоценимое военное и политическое свидетельство! Генерал, правда, упреждает события, когда говорит, что из Кронштадта прибыли матросы: они прибудут только через несколько часов. Мост наведен на самом деле «Авророй». Наивна выраженная в конце донесения надежда на то, что большевики, «давно уже имеющие фактическую возможность разделаться со всеми нами… не посмеют пойти вразрез с мнением фронтовой армии». Иллюзии насчет фронта – это все, что оставалось тыловым генералам, как и тыловым демократам. Зато образ Временного правительства, находящегося «в столице враждебного государства», навсегда войдет в историю как лучшее объяснение октябрьского переворота.
В Смольном шли непрерывные заседания. Агитаторы, организаторы, руководители заводов, полков, районов появлялись на час-два, иногда на несколько минут, чтобы разузнать новости, проверить себя и вернуться на свой пост. У комнаты № 18, где помещалась большевистская фракция Совета, шла неописуемая толчея. Усталые вконец посетители засыпали нередко в зале заседаний, прислонившись отяжелевшей головою к белой колонне, или в коридоре у стены, обняв свою винтовку, иногда просто растягивались вповалку на грязном мокром полу. Лашевич принимал военных комиссаров и давал им последние указания. В помещении Военно-революционного комитета, на третьем этаже, стекавшиеся со всех сторон донесения превращались в распоряжения: там билось сердце восстания.
Центры районов воспроизводили картину Смольного, только в меньшем масштабе. На Выборгской стороне, против штаба Красной гвардии, по Сампсониевскому проспекту, образовался целый лагерь: улицу загромождали запряженные повозки, легковые автомобили, грузовики. Учреждения района кишели вооруженными рабочими. Совет, Дума, профессиональные союзы, завкомы – все в этом районе служило делу восстания. На заводах, в казармах, в учреждениях происходило в малом объеме то же, что и во всей столице: оттесняли одних, выбирали других, разрывали остатки старых связей, закрепляли новые. Отставшие выносили резолюции о подчинении Военно-революционному комитету. Меньшевики и эсеры пугливо жались к сторонке вместе с администрацией заводов и командным составом частей. На непрерывных митингах давалась свежая информация, поддерживалась боевая уверенность, закреплялась связь. Человеческие массы группировались по новым осям. Завершался переворот.
Шаг за шагом старались мы проследить в этой книге подготовление октябрьского восстания: обострение недовольства рабочих масс, переход советов под большевистские знамена, возмущение армии, поход крестьян против помещиков, разлив национального движения, рост страха и растерянности имущих и правящих, наконец, борьбу внутри большевистской партии за восстание. Завершительный переворот кажется после всего этого слишком коротким, слишком сухим, слишком деловым, как бы не отвечающим историческому размаху событий. Читатель испытывает своего рода разочарование. Он похож на горного туриста, который, ожидая, что главные трудности еще впереди, открывает вдруг, что он уже на вершине или почти. Где восстание? Картины восстания нет. События не слагаются в картину. Мелкие операции, рассчитанные и подготовленные заранее, остаются отделенными одна от другой в пространстве и во времени. Связывает их единство цели и замысла, но не слитность самой борьбы. Нет действий больших масс. Нет драматических столкновений с войсками. Нет всего того, что воспитанное на фактах истории воображение связывает с понятием восстания.
Общий характер переворота в столице дает позже повод Масарику, вслед за многими другими, писать: «Октябрьский переворот… отнюдь не был массовым народным движением. Этот переворот – дело рук вождей, работавших из-за кулис сверху». На самом деле это было самое массовое из всех восстаний истории. Рабочим не было надобности выходить на площадь, чтобы слиться воедино: они и без того составляли политически и морально единое целое. Солдатам даже воспрещено было покидать казармы без разрешения: в этом пункте приказ Военно-революционного комитета совпадал с приказом Полковникова. Но эти невидимые массы более, чем когда-либо, шли нога в ногу с событиями. Заводы и казармы не теряют ни на минуту связи с районными штабами, районы – со Смольным. Отряды красногвардейцев чувствуют за собою поддержку заводов. Команды солдат, возвращаясь в казарму, находят готовую смену. Только имея за собой тяжелые резервы, революционные отряды могли с такой уверенностью выступать на разрешение своих задач. Наоборот, разрозненные правительственные караулы, заранее побежденные собственной изолированностью, отказывались от самой мысли о сопротивлении. Буржуазные классы ждали баррикад, пламени пожаров, грабежей, потоков крови. На самом деле царила тишина, более страшная, чем все грохоты мира. Бесшумно передвигалась социальная почва, точно вращающаяся сцена, выдвигая народные массы на передний план и унося вчерашних господ в преисподнюю.
Уже в 10 часов утра, 25-го. Смольный счел возможным пустить по столице и по стране победоносное извещение: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки Военно-революционного комитета». В известном смысле это заявление сильно забегало вперед. Правительство еще существовало, по крайней мере на территории Зимнего дворца. Существовала ставка. Провинция не высказалась. Съезд советов еще не открывался. Но руководители восстания – не историки: чтобы подготовить для историков события, они вынуждены забегать вперед. В столице Военно-революционный комитет был уже полным хозяином положения. В санкции съезда сомнений быть не могло. Провинция ждала инициативы Петрограда. Чтобы овладеть властью до конца, нужно было начать действовать как власть. В обращении к военным организациям фронта и тыла Комитет призывал солдат бдительно следить за поведением командного состава, арестовывать не присоединяющихся к революции офицеров и не останавливаться перед применением силы в случае попыток бросить враждебные части на Петроград.
Прибывший накануне с фронта Станкевич, главный комиссар ставки, чтобы не оставаться совсем без дела в царстве пассивности и разложения, предпринял утром, во главе полуроты инженерных юнкеров, попытку очистить телефонную станцию от большевиков. Юнкера впервые узнали по этому случаю, в чьих руках станция. «Вот у кого надо, оказывается, учиться энергии, – восклицает со скрежетом офицер Синегуб, – и откуда только у них такое руководство!» Занимавшие телефонную станцию матросы могли бы без труда перестрелять юнкеров через окна. Но восставшие изо всех сил стремятся избегнуть пролития крови. С своей стороны, Станкевич строго приказывает не открывать огня: иначе юнкеров обвинят в том, что они стреляют в народ. Командующий офицер размышляет про себя: «Да ведь раз мы введем порядок, то кто же откроет рот?» – и заключает свои размышления возгласом: «Комедьянты проклятые!» Это и есть формула отношения офицерства к правительству. По собственной инициативе Синегуб посылает в Зимний за ручными гранатами и пироксилиновыми шашками. В промежутке монархический поручик вступает перед воротами станции в политические прения с большевистским прапорщиком: как герои Гомера, они осыпают друг друга перед боем крепкими словами. Оказавшись меж двух огней, пока еще только словесных, телефонистки дают волю нервам. Матросы отпускают их по домам. «Что такое? Женщины?..» С истерическими криками они вырываются из ворот. «Пустынная Морская, – рассказывает Синегуб, – сразу запестрела бегущими, прыгающими нарядами и шляпками». С работой у аппаратов кое-как справляются матросы. Во двор станции вступает скоро броневик красных, не причинив никакого зла перепуганным юнкерам. Те, с своей стороны, захватывают два грузовика и баррикадируют снаружи ворота станции. Со стороны Невского появляется второй броневик, затем третий. Все сводится к маневрам и попыткам взаимного устрашения. Борьба за станцию разрешается без пироксилина: Станкевич снимает осаду, выговорив свободный проход для своих юнкеров.
Оружие вообще служит пока только внешним признаком силы: в дело его почти не пускают. По дороге к Зимнему полурота Станкевича натыкается на команду матросов с винтовками на изготовку. Противники меряют друг друга взглядами. Ни та ни другая сторона не хочет драться: одна – от сознания силы, другая – от чувства слабости. Но где представляется случай, восставшие, особенно рабочие, спешат разоружить врага. Вторая полурота тех же инженерных юнкеров, окруженная красногвардейцами и солдатами, разоружена ими при содействии броневиков и захвачена в плен. Боя, однако, не было и здесь: юнкера не сопротивлялись. «Так окончилась, – свидетельствует инициатор, – единственная, насколько я знаю, попытка активного сопротивления большевикам». Станкевич имеет в виду операции вне района Зимнего дворца. К полудню улицы вокруг Мариинского дворца заняты войсками Военно-революционного комитета. Члены предпарламента только сходились на заседание. Президиум сделал попытку получить последние сведения: сердца сразу упали, когда обнаружилось, что телефоны выключены. Совет старейшин обсуждал, что делать. Депутаты жужжали по углам. Авксентьев утешал: Керенский выехал на фронт, скоро вернется и все поправит. У подъезда остановился броневик. Солдаты Литовского и Кексгольмского полков и матросы гвардейского экипажа вступили в здание, построились вдоль лестницы, заняли первую залу. Начальник отряда предлагает депутатам немедленно покинуть дворец. «Впечатление получилось ошеломляющее», – свидетельствует Набоков. Члены предпарламента решили разойтись, «временно прервав свою деятельность». Против подчинения насилию голосовали 48 правых: они знали, что останутся в меньшинстве. Депутаты мирно спускались по великолепной лестнице между двумя шпалерами винтовок. Очевидцы свидетельствуют:
«Никакого драматизма во всем этом не было». «Обычные бессмысленные, тупые, злобные физиономии», – пишет либеральный патриот Набоков о русских солдатах и матросах. Внизу, при выходе, командиры просматривали документы и выпускали всех. «Ожидали сортировки членов и кое-каких арестов, – свидетельствует Милюков, выпущенный в числе остальных, – но у революционного штаба были другие заботы». Не только это: у революционного штаба было мало опыта. Предписание гласило: арестовать, если окажутся, членов правительства. Но их не оказалось. Члены предпарламента были выпущены беспрепятственно, в том числе и те, которые стали вскоре организаторами гражданской войны.
Парламентский ублюдок, прекративший свое существование часов на 12 раньше, чем Временное правительство, прожил на свете 18 дней: таков промежуток времени между выходом большевиков из Мариинского дворца на улицу и вторжением вооруженной улицы в Мариинский дворец. Из всех пародий на представительство, которыми так богата история, «Совет Российской Республики» был, пожалуй, самой нелепой.
Покинув злополучное здание, октябрист Шидловский пошел бродить по городу, чтобы следить за боями: эти господа считали, что народ поднимется на их защиту. Но боев не обнаруживалось. Зато, по словам Шидловского, публика на улицах – избранная толпа Невского проспекта – поголовно смеялась. «Слышали вы: большевики захватили власть? Ведь это не более чем на три дня. Ха, ха, ха». Шидловский решил остаться в столице «на тот срок, который общественная молва назначила для царствования большевиков». Три дня, как известно, сильно растянулись.
Смеяться публика Невского начала, впрочем, только к вечеру. С утра настроение было настолько тревожным, что в буржуазных кварталах мало кто решался выходить на улицу. Часов в девять журналист Книжник побежал на Каменноостровский проспект за газетами, но газетчиков не оказалось. В небольшой кучке обывателей передавали, что ночью большевики заняли телефон, телеграф и банк. Солдатский патруль послушал и попросил не шуметь. «Но и без того все были необыкновенно тихи». Проходили вооруженные отряды рабочих. Трамваи двигались, как обычно, т. е. медленно. «Редкость прохожих меня подавляла», – пишет Книжник о Невском. В ресторанах кормили, но преимущественно в задних комнатах. В полдень пушка не громче, не тише обыкновенного прогремела со стены Петропавловской крепости, надежно занятой большевиками. Стены и заборы были заклеены воззваниями, предупреждавшими против выступлений. Но напирали уже другие воззвания, извещавшие о победе восстания. Их не успели еще расклеить и разбрасывали с автомобилей. От только что отпечатанных листков пахло свежей краской, как и от самих событий.
Отряды Красной гвардии вышли из своих районов. Рабочий с винтовкой, штык над кепкой или шапкой, ремень через штатское пальто, этот образ неотделим от 25 октября. Осторожно и еще неуверенно вооруженный рабочий наводил порядок в завоеванной им для себя столице.
Спокойствие на улицах вселяло спокойствие в сердца. Обыватели стали высыпать из домов. К вечеру в их рядах чувствовалось меньше тревоги, чем в предшествующие дни. Занятия в правительственных и общественных учреждениях, правда, прекратились. Но многие магазины оставались открыты; иные закрывались, но больше из предосторожности, чем по необходимости. Восстание? Разве так восстают? Просто происходит смена февральских караулов октябрьскими.
К вечеру Невский был более чем когда-либо переполнен той публикой, которая отсчитывала большевикам три дня жизни. Солдаты Павловского полка, хотя их заставы подкреплены броневиками и даже зенитным орудием, уже больше не внушали страха. Правда, что-то серьезное происходит вокруг Зимнего, и туда не пропускают. Но не может же все восстание сосредоточиться на Дворцовой площади? Американский журналист видел, как старики в богатых шубах показывали павловцам кулаки в перчатках, а нарядные жунщины визгливо выкрикивали им в лицо ругательства. «Солдаты отвечали слабо, со сконфуженными улыбками». Они явно терялись на шикарном Невском, которому еще только предстояло превратиться в «Проспект 25 октября».
Клод Анэ, официозный французский журналист в Петрограде, искренно удивлялся: бестолковые русские делают революцию не так, как он вычитал в старых книгах. «Город спокоен»! Анэ сносится по телефону, принимает визиты, выходит из дому. Солдаты, которые пересекают ему на Мойке дорогу, шествуют в полном порядке, «как при старом режиме». На Миллионной многочисленные патрули. Нигде ни выстрела. Огромная площадь Зимнего в этот полуденный час еще почти пуста. Патрули на Морской и Невском. У солдат видна выправка, одеты безупречно. На первый взгляд представляется несомненным, что это войска правительства. На Мариинской площади, откуда Анэ собирался проникнуть в предпарламент, его задерживают солдаты и матросы, «право же, очень вежливые». Две улицы, примыкающие ко дворцу, забаррикадированы автомобилями и повозками. Тут же броневик. Это все подчинено Смольному. Военно-революционный комитет выслал по городу патрули, выставил свои караулы, распустил предпарламент, владычествует над столицей и установил в ней порядок, «невиданный с тех пор, как наступила революция». Вечером дворничиха сообщает французскому жильцу, что из советского штаба принесли номера телефонов, по которым можно во всякое время вызвать военную помощь в случае нападения или подозрительных обысков. «Поистине, нас никогда лучше не охраняли».
В 2 ч. 35 минут дня – иностранные журналисты глядели на часы, русским было не до того – экстренное заседание Петроградского Совета открылось докладом Троцкого, который от имени Военно-революционного комитета объявил, что Временное правительство больше не существует. «Нам говорили, что восстание потопит революцию в потоках крови… Мы не знаем ни одной жертвы». В истории не было примера революционного движения, где были бы замешаны такие огромные массы, и которое прошло бы так бескровно. «Зимний дворец еще не взят, но судьба его решится в течение ближайших минут». Предстоящие двенадцать часов обнаружат, что это предсказание слишком оптимистично.
Троцкий сообщает: с фронта двинуты против Петрограда войска, необходимо немедленно послать комиссаров Совета на фронт и по всей стране для осведомления о происшедшем перевороте. Из немногочисленного правого сектора раздаются голоса: «Вы предрешаете волю съезда советов». Докладчик отвечает: «Воля съезда предрешена огромным фактом восстания петроградских рабочих и солдат. Теперь нам остается только развивать нашу победу».
Ленин, впервые появившийся здесь публично после своего выхода из подполья, кратко намечал программу революции: разбить старый государственный аппарат; создать новую систему управления через советы; принять меры к немедленному окончанию войны, опираясь на революционное движение в других странах; уничтожить помещичью собственность и тем завоевать доверие крестьян; учредить рабочий контроль над производством. «Третья русская революция должна в конечном итоге привести к победе социализма».
ВЗЯТИЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Керенский встретил Станкевича, прибывшего с фронта с докладами, в приподнятом настроении: он только что вернулся из Совета республики, где окончательно разоблачил восстание большевиков. – Восстание? – Разве вы не знаете, что у нас вооруженное восстание? – Станкевич рассмеялся: ведь улицы совершенно спокойны; разве так должно выглядеть настоящее восстание? – Но надо будет все же положить конец этим вечным потрясениям. С этим Керенский согласен полностью: он только ждет резолюции предпарламента.
В 9 часов вечера правительство собралось в Малахитовом зале Зимнего дворца, чтобы разработать способы «решительной и окончательной ликвидации» большевиков. Посланный в Мариинский дворец для ускорения дела Станкевич с возмущением сообщил о только что вынесенной формуле полунедоверия. Даже борьбу с восстанием резолюция предпарламента предлагала возложить не на правительство, а на особый комитет общественного спасения. Керенский сгоряча заявил, что при таких условиях «ни минуты не останется более во главе правительства». Соглашательских лидеров немедленно вызвали по телефону во дворец. Возможность отставки Керенского изумила их не меньше, чем Керенского – их резолюция. Авксентьев оправдывался: они-де считали резолюцию «чисто теоретической и случайной и не думали, что она может повлечь практические шаги». Да, они теперь сами видят, что резолюция «может быть, не совсем удачно редактирована». Эти люди не упускали ни одного случая, чтобы показать, чего они стоят.
Ночная беседа демократических вождей с главой государства кажется совершенно неправдоподобной на фоне развертывающегося восстания. Дан, один из главных могильщиков февральского режима, требовал, чтобы правительство сейчас же, ночью, расклеило по городу афиши с заявлением о том, что оно предложило союзникам начать переговоры о мире. Керенский отвечал, что правительство в подобных советах не нуждается. Можно поверить, что оно предпочло бы крепкую дивизию. Но этого Дан не мог предложить. Ответственность за восстание Керенский пытался, конечно, подбросить собеседникам. Дан отвечал, что правительство преувеличивает события под влиянием своего «реакционного штаба». Выходить в отставку во всяком случае нет надобности: неприятная резолюция необходима для перелома настроения в массах. Большевики «завтра же» вынуждены будут распустить свой штаб, если правительство последует внушениям Дана. «Как раз в это время, – поясняет Керенский с законной иронией, – Красная гвардия занимала одно за другим правительственные здания».
Не успело закончиться столь содержательное объяснение с левыми друзьями, как к Керенскому, в лице делегации Совета казачьих войск, явились друзья справа. Офицеры делали вид, будто от их воли зависит поведение трех расположенных в Петрограде казачьих полков, и ставили Керенскому условия, диаметрально противоположные условиям Дана: никаких уступок советам, расправа с большевиками должна быть на этот раз доведена до конца, не как в июле, когда казаки пострадали зря. Керенский, сам не желавший ничего иного, обещал все, чего от него хотели, и извинялся перед собеседниками в том, что до сих пор еще не арестовал, по соображениям осторожности, Троцкого, как председателя Совета депутатов. Делегаты покинули его с заверением, что казаки исполнят свой долг. Казачьим полкам тут же отправлен из штаба приказ: «Во имя свободы, чести и славы родной земли выступить на помощь Центральному исполнительному комитету. Временному правительству и для спасения гибнущей России». Это чванное правительство, столь ревниво охранявшее свою независимость от ЦИКа, вынуждено каждый раз униженно прятаться за его спину в минуту опасности. Умоляющие приказы разосланы также по юнкерским училищам, в Петрограде и в окрестностях. Железным дорогам предписано: «идущие в Петроград с фронта эшелоны войск направлять вне всякой очереди, прекратив, если надо, пассажирское движение».
После того как правительство, совершив все ему доступное, разошлось во втором часу ночи, с Керенским остался во дворце лишь его заместитель, либеральный московский купец Коновалов. Командующий округом Полковников явился к ним с предложением немедленно же организовать при помощи верных войск экспедицию для захвата Смольного. Керенский, не задумываясь, принял этот прекрасный план. Но из слов командующего никак нельзя было понять, на какие же силы он рассчитывает опереться. Тут только Керенский, по собственному признанию, понял, что рапорты Полковникова за последние 10–12 дней о полной его готовности к борьбе с большевиками «были совершенно ни на чем не основаны». Как будто в самом деле для оценки политической и военной обстановки у Керенского не было иных источников, кроме канцелярских докладов посредственного полковника, неизвестно почему поставленного во главе округа. Во время горестных размышлений главы правительства комиссар градоначальства Роговский принес ряд сообщений: несколько судов Балтийского флота в боевом порядке вошло в Неву; некоторые из них поднялись до Николаевского моста и заняли его; отряды восставших продвигаются к Дворцовому мосту. Роговский обратил особое внимание Керенского на то обстоятельство, что «большевики осуществляют весь свой план в полном порядке, не встречая нигде никакого сопротивления со стороны правительственных войск». Какие войска надлежало считать правительственными, из беседы во всяком случае неясно.
Керенский с Коноваловым бросились из дворца в штаб: «Времени более нельзя было терять ни минуты». Внушительное красное здание штаба оказалось переполнено офицерами. Они приходили сюда не по делам своих частей, а скрываясь от них. «Среди этой военной толпы повсюду шныряли какие-то никому не известные штатские». Новый доклад Полковникова окончательно убедил Керенского в невозможности полагаться на командующего и его офицеров. Глава правительства решает собрать лично вокруг себя «всех верных долгу». Вспомнив, что он человек партии – так иные лишь в предсмертном томлении вспоминают о церкви, – Керенский требует по телефону немедленной присылки эсеровских боевых дружин. Прежде, однако, чем это неожиданное обращение к вооруженным силам партии могло – если вообще могло – дать результаты, оно должно было, по словам Милюкова, «оттолкнуть от Керенского все более правые элементы, и без того относившиеся к нему неприязненно». Изолированность Керенского, достаточно наглядно обнаружившаяся уже в дни корниловского восстания, получила теперь еще более фатальный характер. «Мучительно тянулись долгие часы этой ночи», – повторяет Керенский свою августовскую фразу.
Подкрепления ниоткуда не появлялись. Казаки заседали, представители полков говорили, что выступить, вообще говоря, можно бы, почему не выступить, но для этого нужны пулеметы, броневики и, главное, пехота. Керенский, не задумываясь, обещал им броневики, которые собирались его покинуть, и пехоту, которой у него не было. В ответ он услышал, что полки скоро обсудят все вопросы и «начнут седлать лошадей». Боевые силы эсеров не подавали признаков жизни. Существовали ли они еще? Где вообще граница меж реальным и призрачным? Собравшееся в штабе офицерство держало себя по отношению к верховному главнокомандующему и главе правительства «все более и более вызывающе». Керенский утверждает даже, что среди офицерства велись речи о необходимости его ареста. Здание штаба по-прежнему никем не охранялось. Официальные переговоры велись при посторонних, вперемежку с возбужденными частными беседами. Настроение безнадежности и распада просачивалось из штаба в Зимний дворец. Нервничали юнкера, волновалась команда броневых автомобилей. Снизу нет поддержки, наверху царит безголовье. При таких условиях можно ли избежать гибели?
В 5 часов утра Керенский вызвал в штаб управляющего военным министерством. У Троицкого моста генерал Маниковский был задержан патрулями, доставлен в казармы Павловского полка, но оттуда, после коротких объяснений, освобожден: генерал, надо полагать, убедил, что его арест может расстроить весь административный механизм и повлечь невзгоды для солдат на фронте. В это же приблизительно время был задержан у Зимнего автомобиль Станкевича, причем комитет полка отпустил и его. «Это были восставшие, – рассказывает арестованный, – которые, однако, действовали крайне нерешительно. Я из дому протелефонировал об этом в Зимний, но получил оттуда успокоительные заверения, что это недоразумение». На самом деле недоразумением было то, что Станкевича отпустили: через несколько часов он пытался, как мы уже знаем, отбить у большевиков телефонную станцию.
Керенский требовал от ставки в Могилеве и от штаба Северного фронта в Пскове немедленной высылки верных полков. Из ставки Духонин заверял по прямому проводу, что приняты все меры к отправке войск на Петроград и что некоторые части должны бы уже начать прибывать. Но части не прибывали. Казаки все еще «седлали лошадей». Положение в городе ухудшалось с часу на час. Когда Керенский с Коноваловым вернулись передохнуть во дворец, фельдъегерь принес экстренное сообщение: дворцовые телефоны выключены. Дворцовый мост, под окнами Керенского, занят пикетами матросов. Площадь перед Зимним по-прежнему оставалась безлюдна; «о казаках ни слуху ни духу». Керенский снова бросается в штаб. Но и там неутешительные вести. Юнкера получили от большевиков требование покинуть дворец и сильно волнуются. Броневые автомобили вышли из строя, обнаружив не вовремя «утерю» каких-то важных частей. Все еще нет сведений о высланных с фронта эшелонах. Ближайшие подходы ко дворцу и штабу совершенно не охраняются: если большевики до сих пор не вторглись сюда, то только по неосведомленности. Переполненное с вечера офицерством здание быстро пустело: каждый спасался по-своему. Явилась делегация юнкеров: они готовы выполнять свой долг и дальше, «если только есть надежда на подход каких-либо подкреплений». Но подкреплений-то как раз и не было.
Керенский спешно вызвал министров в штаб. У большинства не оказалось автомобилей: эти важные средства передвижения, придающие новые темпы современному восстанию, были либо захвачены большевиками, либо отрезаны от министров цепями восставших. Прибыл только Кишкин, позже присоединился Малянтович. Что предпринять главе правительства? Немедленно ехать навстречу эшелонам, чтобы продвинуть их через все препятствия: ничего другого никто предложить не может.
Керенский приказывает подать свой «превосходный открытый дорожный автомобиль». Но тут в цепь событий включается новый фактор в виде несокрушимой солидарности, связывающей правительства Антанты в счастье и в беде. «Каким образом, я не знаю, но весть о моем отъезде дошла до союзных посольств». Представители Великобритании и Соединенных Штатов немедленно выразили пожелание, чтобы с удирающим из столицы главой правительства «в дорогу пошел автомобиль под американским флагом». Сам Керенский считал это предложение лишним и даже стеснительным, но принял его как выражение солидарности союзников.
Американский посол Давид Френсис дает другую версию, несколько менее похожую на святочный рассказ. За американским автомобилем следовал будто бы до посольства автомобиль с русским офицером, который требовал уступить Керенскому посольский автомобиль для поездки на фронт. Посоветовавшись между собою, чины посольства пришли к заключению, что, так как автомобиль уже «захвачен» фактически, – чего совершенно не было – им остается лишь подчиниться силе обстоятельств. Русский офицер, несмотря будто бы на протесты господ дипломатов, отказался снять американский флаг. И неудивительно: ведь только этот цветной лоскуток и придавал автомобилю неприкосновенность. Френсис одобрил действия чинов посольства, но приказал «никому не говорить об этом».
Из сопоставления двух показаний, которые под разными градусами пересекают линию истины, картина становится достаточно ясной: не союзники, конечно, навязали автомобиль Керенскому, а сам он выпросил его; но так как дипломатам приходилось отдавать дань лицемерию невмешательства во внутренние дела, то условлено было, что автомобиль «захвачен» и что посольство «протестовало» против злоупотребления флагом. После того как это деликатное дело было улажено, Керенский занял место в собственном автомобиле; американский пошел сзади в резерве. «Нечего и говорить, – рассказывает далее Керенский, – что вся улица – и прохожие и солдаты – сейчас же узнала меня. Я отдавал честь, как всегда, немного небрежно и слегка улыбаясь». Несравненный образ: небрежно и улыбаясь, – так февральский режим отходил в царство теней. У выездов из города стояли везде заставы и патрули вооруженных рабочих. При виде бешено несущихся автомобилей красногвардейцы бросились к шоссе, но стрелять не решились. Стрелять вообще еще избегали. Может быть, сдерживал и американский флажок. Автомобили благополучно промчались дальше. – А в Петрограде, значит, нет войск, готовых защищать Временное правительство? – изумленно спрашивал Малянтович, живший до этого часа в царстве вечных истин права. – Ничего не знаю – Коновалов развел руками. – Плохо, – прибавил он. – И какие это войска идут? – доискивался Малянтович. – Кажется, батальон самокатчиков. – Министры вздыхали. В Петрограде и его окружении насчитывалось 200 тысяч солдат. Плохи же дела режима, если главе правительства приходится мчаться навстречу батальону самокатчиков с американским флажком за спиною!